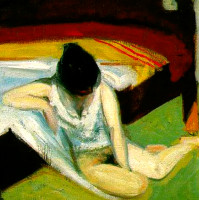Победа
Уильям ФолкнерI
Те, кто видел его в то хмурое утро на Лионском вокзале, когда он сходил с марсельского экспресса, видели высокого, несколько чопорного человека с туго закрученными усами на смуглом лице и почти сплошь седой головой. "Милорд какой-нибудь", – говорили они, глядя на его строгий, корректный костюм, корректную трость, которую он так корректно держал в руке, и на его очень небольшой багаж. "Милорд какой-нибудь, из военных. Но какие-то у него странные глаза". Впрочем, у многих теперь в Европе были странные глаза – и у мужчин и у женщин, – эти последние четыре года. Люди смотрели на него, когда он шел по перрону, – на полголовы выше толпы французов, взгляд напряженный, остановившийся, и сам весь напряженный, сосредоточенный и вместе с тем уверенный в себе, – и, проводив его глазами, пока он не сел в кеб, думали, если только он тут же не переставал для них существовать: "Вот такого можно увидеть где-нибудь в иностранной миссии, или за столиком на Бульварах, или на прогулке в Булонском лесу, в экипаже с красивыми английскими леди". И все.
А те, кто видел, как он выходил из этого кеба на Северном вокзале, думали: "Домой торопится милорд". Носильщик, взяв у него из рук чемодан, приветствовал его с добрым утром на чистом английском языке и сказал ему, что он сам собирается в Англию; в ответ его смерили холодным английским взглядом, но носильщик, по-видимому, принял это как должное и посадил его в купе первого класса в поезд, прибывающий в Кале к отбытию пакетбота. И все. И так оно шло и дальше. Все, как полагается, даже когда он сошел в Амьене. Английские милорды куда не заедут! И только в Розьере на него начали глазеть и оборачиваться ему вслед.
В наемной машине он трясся по разбитой улице между разбитых стен без окон и без дверей, торчавших изъеденными огрызками в вечерних сумерках. Там и сям улицу перегораживали груды кирпича, рухнувшие стены домов, в трещинах которых пробивалась чахлая трава. Они въезжали в запустелые, развороченные дворы; в одном из них среди густо разросшегося бурьяна стоял опрокинутый на бок умолкший заржавленный танк. Это был городок Розьер. Но приезжий не остановился здесь, потому что здесь никто не жил и остановиться было негде.
Машина, тяжело подскакивая, пробиралась среди развалин. Грязная немощеная улица вела в поселок из свежего кирпича, листового железа и толевых крыш американской выделки и упиралась в самый высокий дом. Дом был без двора, без забора: кирпичная стена, дверь, одно-единственное окно с американским стеклом, и на нем надпись: "Ресторан".
– Здесь, сэр, – сказал шофер.
Приезжий вышел из машины со своим чемоданом, пальто и корректной тростью. Вошел в довольно большую голую комнату, промозглую от еще не обсохшей штукатурки. Там стоял бильярд и играли трое мужчин. Один из них оглянулся через плечо и сказал:
– Bonjour, monsieur!
Приезжий не ответил. Он прошел через всю комнату, мимо новенькой металлической стойки, к открытой двери, за которой сидела женщина неопределенного возраста, лет так около сорока, и поглядывала на него поверх шитья, лежавшего у нее на коленях.
– Bonjour, madame, – сказал он. – Dormie, madame? {Переночевать, мадам? – искаж. фр.}
Женщина окинула его быстрым спокойным взглядом.
– Ce'est ca, monsieur, – ответила она, вставая. {Да, мосье}
– Dormie, madame? – сказал он, немного повысив голос; на его закрученных усах блестели дождевые капельки, и под напряженными, но уверенными глазами тоже поблескивала влага.
– Dormie, madame?
– Bon, monsieur, – сказала женщина. – Bon. Bon. {Хорошо, мосье. Хорошо, хорошо}
– Dor... – начал было снова приезжий. Кто-то тронул его за руку. Это был тот самый человек, который поздоровался с ним из-за бильярда.
– Regardez, monsieur l'Anglais, {Взгляните, мосье англичанин} – сказал он и, взяв у него чемодан из рук, показал на потолок.
– La chambre. {Вот комната} – Он снова тронул приезжего за руку, положил лицо на ладонь, закрыл глаза. Затем снова показал на потолок и пошел через комнату к деревянной лестнице без перил. Проходя мимо стойки, он взял огарок и зажег свечу, стоявшую в подсвечнике внизу у лестницы (большая комната и комната, где сидела женщина, были освещены электрическими лампочками, которые свисали с потолка прямо на проводах, без всяких колпачков).
Они поднялись по лестнице, их вихляющиеся тени скользнули впереди них в узкий, холодный, сырой, как могила, коридор. На стенах еще не обсохла штукатурка. Пол был некрашеный, на голых сосновых досках не было даже половика. На дверях симметрично поблескивали дешевые металлические ручки. Спертый воздух, словно рукой, накрыл пламя свечи. Они вошли в комнату, где стоял тот же запах сырой штукатурки и было еще холоднее, чем в коридоре; и этот спертый холод ощущался как нечто почти вещественное, как если бы воздух между прежними и вновь возведенными стенами сгустился и застывал, как желе, состряпанное наспех из порошка. В комнате стояли кровать, комод, стол, стул и умывальник; таз, кувшин и ведро были американские, эмалированные. Когда приезжий потрогал постель, рука его нащупала не простыню, а что-то грубое, как мешковина, влажное, набухшее, слипшееся в этой промозглой сырости, где пар от их дыхания клубился в воздухе, в тусклом свете свечи.
Хозяин поставил свечу на комод.
– Diner, monsieur? {Пообедать, мосье?} – сказал он. Приезжий уставился на хозяина, невообразимо нелепый с этим своим чопорным, натянутым видом, в строгом, корректном костюме. Его нафабренные усы поблескивали, как острия штыков, над галстуком в полоску, на котором сочетались цвета и значки шотландского полка, о чем, конечно, не мог знать хозяин гостиницы. – Manger? {Кушать?} – крикнул хозяин и, стараясь помочь себе мимикой, стал яростно жевать.
– Manger? – гаркнул он, и его тень, кривляясь, повторила его жест, когда он, опустив руку, ткнул пальцем вниз.
– Да! – громко крикнул приезжий, хотя они стояли лицом к лицу, в двух-трех шагах друг от друга. – Да! Да!
Хозяин энергично закивал, ткнул указательным пальцем вниз, потом на дверь, опять закивал и вышел. Он спустился по лестнице. Женщина была уже в кухне, у плиты.
– Он будет есть, – сказал хозяин.
– Я так и знала, – ответила женщина.
– Чего это им дома не сидится, – сказал хозяин, – хорошо, что я не из этой породы, которой достался такой маленький клочок земли, что негде и разместиться всем сразу.
– Может, он приехал поглядеть на войну, – сказала женщина.
– Ясно, а то зачем же? Но только ему следовало бы приехать пораньше, этак годика четыре тому назад. Вот когда нам нужно было, чтобы эти англичане приехали поглядеть на войну.
– Он уже стар был, чтобы приехать тогда, – возразила женщина. – Разве ты не видел – весь седой?
– Ну и сидел бы себе дома и сейчас. Он ведь не стал моложе.
– Может, он приехал посмотреть на могилу сына.
– Кто? Этот-то? – сказал хозяин. – Да разве у такой деревяшки может быть сын?!
– Что ж, почему и нет, – сказала женщина. – В конце концов, его дело. Наше дело, только чтобы у него денежки были!
– Что правда, то правда! – сказал хозяин. – Человеку в нашем промысле выбирать не приходится.
– Нам бы только половчей обирать! – сказала женщина.
– Здорово! – подхватил хозяин. – Вот это так здорово сказано! Обирать! Вот так и скажи нашему англичанину!
– А зачем? Пусть лучше сам узнает, когда будет уезжать!
– И то, – сказал хозяин. – Еще того лучше! Ох и ловка!
– Тише, – промолвила женщина. – Идет!
Они прислушались к твердым, тяжелым шагам, и через несколько секунд приезжий появился в дверях. Его смуглое лицо и седая голова в тусклом освещении большой комнаты напоминали негатив.
Стол был накрыт на двоих. У каждого прибора стоял графин с красным вином. Когда приезжий уселся, вошел другой постоялец и сел напротив маленький человечек с крысиным личиком, на котором как будто совсем не было ресниц. Он засунул салфетку в проем жилета. Взял разливательную ложку миска с супом стояла между ними посреди стола – и подал ее своему соседу.
– Faites-moi l'honneur, monsieur {Окажите мне честь, мосье}, – сказал он. Тот чопорно поклонился и взял ложку. Маленький человечек поднял крышку с миски. – Vous venez examiner ce scene de nos victores, monsieur? {Осматриваете места наших побед?} – сказал он, наливая себе супу вслед за ним. Тот поглядел на него молча. – Monsieur 1'Anglais a peut-etre beaucoup d'amis qui sont tombds en voisinage {Очевидно, у мосье англичанина много друзей погибло в этих краях}.
– Не говорю по-французски, – отвечал тот, занявшись супом.
Маленький человечек еще не начал есть. Он держал ложку над тарелкой, не опуская ее в суп.
– Очень отрадно для нас. Я говориль на английском. Я сам есть швейцарец. Я говориль все языки.
Тот не ответил. Ел сосредоточенно, не торопясь.
– Ви приехать навестить могили наш доблестний соотечественник? Быть может, ваш сын здесь?
– Нет, – ответил тот. Он не переставал есть.
– Нет? – Сосед покончил с супом и отодвинул тарелку. Выпил глоток вина. – Как горестно для шеловек, у который он здесь! – сказал швейцарец. Но теперь конец это. Так? Правда?
И опять тот не ответил. И не смотрел на швейцарца. Казалось, он вообще ни на что не смотрел своими остановившимися глазами, и на неподвижном лице стояли туго закрученные вверх иголочки усов.
– Я тоже страдаль. Все страдать. Но я говорю себе: что можно хотеть? Это есть война.
Приезжий снова промолчал. Он ел сосредоточенно, не спеша. Кончив с едой, встал и вышел из комнаты. Зажег у стойки свою свечу, а хозяин, который стоял тут же, облокотившись рядом с другим постояльцем в плисовой куртке, приподнял свой стакан и сказал:
– Au bon dormir, monsieur {Доброго сна, мосье}.
Приезжий повернул к хозяину освещенное свечой застывшее лицо с закрученными остриями усов, глаза остались в тени.
– Что? – сказал он. – Да! Да! – Повернулся и пошел к лестнице. Двое у стойки смотрели ему вслед, вслед его уверенной, чопорной спине.
С той минуты, как поезд отошел от Арраса, обе женщины не отрываясь глазели на третьего пассажира в их отделении. Это был жесткий вагон, потому что мягкие вагоны не пускают по этой линии. Они сидели закутанные в платки, неподвижно сложив грубые крестьянские руки на коленях поверх закрытых корзинок, и смотрели на человека, сидящего напротив них, – благородная седина волос над смуглым застывшим лицом, острия закрученных усов, заграничный костюм и трость. Он сидел на грязной, истертой скамье и смотрел в окно. Сначала они только поглядывали на него, готовые сейчас же отвести взгляд. Но так как он, видимо, не замечал их присутствия, они начали тихонько перешептываться, поднося руку ко рту. Но он как будто и этого не замечал, и они стали говорить вполголоса, следя быстрыми, ясными, любопытными глазами за этой застывшей, непостижимой фигурой, которая, опираясь на трость и чуть нагнувшись вперед, смотрела в замызганное окно. А там и смотреть-то было не на что, разве что промелькнет изрытый снарядами проселок или уцелевший обломок дерева, не выше человеческого роста, да кое-где узенькие полоски пашни, безрассудно льнущие к обширным островкам земли, отмеченным низкими колышками с красными опознавательными знаками, пустынным заповедным островкам, господствующим над разорением вокруг. Затем поезд замедлил ход и вдруг въехал в груды кирпича, среди которых торчал маленький домик из рифленого железа, и на нем большими буквами было написано название станции. Они увидели, как пассажир нагнулся к окну.
– Гляди-ка, – сказала одна из женщин, – на губы гляди! Видишь, он название читает. Что я тебе говорила! Так и есть. Сына у него здесь убили.
– Так сколько ж у него сыновей-то, выходит, – отозвалась другая. – Он каждую станцию так читал, как только от Арраса отъехали. Эх ты! Это у него-то сын! У этакой ледышки!
– Да ведь у них тоже дети бывают!
– Для этого они виски пьют. А то...
– Так-то оно так. Ведь у них только и заботы – жрать да деньги копить, у этих англичан!
Тут они вышли. Поезд двинулся дальше. В вагон вошли другие крестьяне в залепленных грязью сапогах, с поклажей, с живой и битой птицей в корзинах. И они тоже с любопытством глазели на неподвижную фигуру, нагнувшуюся к окну. А поезд бежал по опустошенной земле, мимо кирпичных или железных станций, выраставших над грудами развалин. И они смотрели, как он шевелит губами, читая названия остановок.
– Пусть поглядит, что это за штука война; видно, он только теперь про нее услышал, – говорили они меж собой. – Что ему? Поглядит да и отправится восвояси. Воевали-то ведь не у него на гумне.
– И не у него в доме, – прибавила какая-то женщина.
II
Батальон стоит вольно под дождем. Два дня он был на отдыхе. Меняли снаряжение, чистились, пополняли ряды. И теперь он стоит вольно, с тупой покорностью овечьего стада, под проливным дождем, повернувшись лицом к старшему сержанту, с которого течет ручьями дождевая вода.
В дверях по ту сторону плаца появляется полковник. На секунду он останавливается, застегивая шинель, потом в сопровождении двух адъютантов бодро шагает по грязи в своих начищенных башмаках с крагами и подходит к батальону. "Смирно!" – командует старший сержант. Батальон весь разом сжимается с глухим отрывистым шарканьем. Старший сержант поворачивается, делает один шаг к офицерам и козыряет, зажав стек под мышкой. Полковник чуть притрагивается стеком к околышку фуражки.
– Вольно... – говорит полковник. И снова раздается тупой, слитный, хлюпающий звук. Офицеры подходят к первой шеренге первого взвода. Старший сержант идет позади. Сержант первого взвода делает шаг вперед и отдает честь. Полковник проходит, не отвечая. Сержант следует позади. И все пятеро идут вдоль строя роты, оглядывая по очереди застывшие, одеревенелые лица. Первая рота.
Сержант козыряет спине полковника, возвращается на свое место и становится навытяжку. Сержант из второй роты делает шаг вперед, отдает честь; ему не отвечают; он идет вслед за старшим сержантом. С шинели полковника вода хлещет прямо на его начищенные башмаки, грязь снизу всползает по башмакам, вода сверху подхватывает ее, и грязь ползет выше и выше по крагам.
Третья рота. Полковник останавливается против одного солдата. Шинель на спине полковника набухла и стоит бугром там, где дождь ручьем стекает с околыша фуражки; он похож на злую нахохлившуюся птицу. Два других офицера, старший сержант и сержант, тоже останавливаются, и все они смотрят на пятерых солдат, которые стоят против них. Пятеро солдат смотрят неподвижно, не мигая, лица у них как деревянные, и глаза тоже деревянные.
– Сержант! – говорит полковник обиженным тоном. – Что, этот солдат брился сегодня?
– Сэр?.. – звенящим голосом откликается сержант.
Старший сержант повторяет:
– Брился этот солдат сегодня, сержант?
И теперь все пятеро не сводят глаз с солдата, чей неподвижный взгляд, кажется, проходит насквозь через них куда-то дальше, будто их здесь и нет.
– На два шага вперед, когда говорите в строю! – командует старший сержант.
Солдат, который ничего не говорил, выходит из строя, еще более заляпывая грязью полковничьи краги.
– Фамилия? – спрашивает полковник.
– Ноль двадцать четыре сто восемьдесят шесть, Грей! – бойко отвечает солдат.
Батальон глядит, не мигая, прямо перед собой.
– Сэр! – грозно гаркает старший сержант.
– Сэр... – повторяет солдат.
– Утром сегодня брились? – спрашивает полковник.
– Не... сэр!
– Почему нет?
– Не бреюсь, сэр.
– Как?
– Года не вышли бриться.
– Сэр! – свирепо гаркает старший сержант.
– Сэр... – повторяет солдат.
– Года?.. – Голос полковника обрывается где-то позади его негодующего взора, вода капает у него с козырька. – Наложить взыскание, сержант! говорит он и проходит дальше.
Батальон, не шелохнувшись, глядит прямо перед собой. Он видит, как полковник, два офицера, старший сержант шагают друг за другом обратно. Старший сержант останавливается там, где ему положено, и козыряет спине полковника. Полковник вскидывает стек к фуражке и быстро проходит в сопровождении двух офицеров к той самой двери, из которой он вышел.
Старший сержант снова поворачивается лицом к батальону. "Смирно!" гаркает он. Неуловимое движение пробегает по рядам, неуловимо предваряющее тот влажный и тупой звук, который, не успев возникнуть, тут же и замирает. Стек старшего сержанта уже не зажат под мышкой, теперь он опирается на него, как это делали офицеры. Взгляд его некоторое время блуждает но первой шеренге строя.
– Сержант Канинхэм! – произносит он наконец.
– Сэр?
– Записали фамилию этого рядового?
Молчание – оно длится чуть больше, чем краткое мгновенье, чуть меньше, чем долгое мгновенье... Затем сержант откликается:
– Какого рядового, сэр?
– Вашего солдата, – говорит старший сержант.
Батальон стоит неподвижно. Дождь тихо моросит в грязь, как будто он уже выбился из сил и не может ни пойти сильней, ни остановиться.
– Вашего солдата, который не бреется, – говорит старшина.
– Грей, сэр, – отвечает сержант.
– Грей! Выйти из строя! Сюда!
Солдат Грей выходит не спеша из рядов, невозмутимо проходит перед строем, его шотландская юбка набухла, потемнела, обвисла, как намокшая попона. Он останавливается против старшего сержанта.
– Почему не брились утром? – спрашивает старший сержант.
– Года мне еще не вышли бриться, – отвечает Грей.
– Сэр, – добавляет старший сержант.
Грей неподвижно смотрит куда-то поверх плеча старшего сержанта.
– Говорить "сэр", когда разговариваете с унтер-офицером первого класса, – отчеканивает старший сержант.
Грей упрямо смотрит мимо его плеча, его лицо под шапочкой без козырька бесчувственно к холодным струям дождя, как будто оно из камня.
Старший сержант повышает голос:
– Сержант Канинхэм!
– Сэр?
– Наложить взыскание и за неподчинение тоже.
– Слушаюсь, сэр.
Старший сержант снова глядит на Грея.
– А уж я позабочусь, не миновать вам штрафного батальона. Становитесь в строй!
Грей не спеша поворачивается и возвращается в строй. Старший сержант провожает его взглядом. Он снова повышает голос:
– Сержант Канинхэм!
– Сэр?
– Вы не записали фамилию этого рядового, как вам было приказано. Еще раз повторится – сами попадете под взыскание.
– Слушаюсь, сэр.
– Выполняйте!
– Да чего же это ты не побрился? – спрашивает Грея сержант. Они уже вернулись в барак – каменный сарай с облупленными стенами, куда не проникает свет, – и теперь сидят на корточках вокруг жаровни в спёртом, пропахшем мочой воздухе, на мокрой соломе. – Ты же ведь знал, что у нас нынче проверка!
– Годами я не вышел, чтобы бриться, – отвечает Грей.
– Да ведь ты же знал, что полковник тебя все равно заметит?
– Не вышли мне года, чтобы бриться, – упрямо и невозмутимо повторяет Грей.
III
– Вот уже двести лет, – говорит Мэтью Грей, – каждый день, кроме воскресенья, корабли идут вверх по Клайду или выходят из его устья, и не было еще на Клайде такого корабля, в котором гвозди не забиты руками Греев.
Нагнув голову, он смотрел на юного Алека поверх очков в стальной оправе.
– И даже в их безбожные праздники мы клепаем и пилим. А коли можно было бы склепать корпус корабля в один день, это сделали бы мы, Грей, – добавил он с суровой гордостью. – И вот теперь, когда ты уже подрос и сам можешь пойти на верфь с дедом, со мной и стать рядом с мужчинами и тебе дадут в руки молоток и пилу, ты мог бы работать наравне с нами...
– Будет тебе, Мэтью! – вмешался старый Алек. – Малый и сейчас орудует пилой не хуже нас и гвоздей может забить в день не меньше, чем ты или даже я.
Мэтью не обратил внимания на слова отца. Он продолжал говорить, медленно, рассудительно, поглядывая на старшего сына поверх стальной оправы.
– А ведь Джону Уэсли нужно еще два года расти, а Мэтью – и все десять, а деду уже много лет, гляди, скоро совсем состарится...
– Да будет тебе, Мэтью! – сказал старый Алек, – какие мои годы, всего-то шестьдесят восемь. Выдумал тоже малого стращать, что дед в богадельню попадет, пока он прокатится в Лондон. Чего там! Все это к святкам кончится.
– Кончится оно к святкам или нет, – сказал Мэтью, – только Греям-корабелыцикам нечего делать в этой войне англичан!
– Постой-ка ты! – сказал старый Алек.
Он поднялся, подошел к шкафчику возле камина и вернулся на свое место со шкатулкой в руках. Шкатулка была деревянная, потемневшая и стертая до глянца от времени. Углы у нее были обиты железом, а спереди висел огромный замок, который и ребенок мог бы открыть простой шпилькой. Он порылся в кармане и вытащил ключ, такой же огромный, как и замок. Открыл шкатулку и бережно вынул оттуда маленькую коробочку с бархатной крышкой, как для ювелирных изделий. Внутри на атласной подушечке лежала медаль – бронзовый кружок на красной ленте. Крест Виктории1.
– Я спускал корабли на воды Клайда, когда твой дядя Саймон служил королеве и получил от нее в награду вот этот кусочек бронзы. И не помню я, чтобы на меня кто-нибудь жаловался. А коли понадобится, так я и сейчас буду без задержки спускать их на воду, пока наш Алек послужит королеве. Отпусти малого!
Он спрятал медаль в шкатулку и запер на замок.
– Повоевать малость парню не во вред. Будь мне столько лет, сколько ему, – да чего там, даже и в твои годы! – я сам бы пошел. Слышь-ка, Алек, спроси их там, не возьмут ли они здорового молодца шестидесяти восьми лет. Вот мы тогда и пойдем с тобой, а старики, вроде Мэтью, пусть уж тут без нас управляются, как сумеют! Нет, Мэтью, ты малого не держи. Было ли когда-нибудь, чтобы Грей отказывались помочь королеве?
Итак, юный Алек записался в войска. И однажды в будний день, обрядившись по-праздничному и захватив с собой узелок с Библией и караваем домашнего хлеба, он спустился с родного холма на верфь, а дед Алек остался дома. И после этого в ясные дни, а иной раз и в непогоду, пока сноха, спохватившись, не уводила его в комнаты, дед Алек сидел, закутавшись в плед, к кресле на крыльце, поглядывая то на юг, то на восток и то и дело окликая жену сына, которая возилась в доме:
– А ну-ка, послушай, слышишь теперь, – пушки палят.
– Ничего я не слышу, – отвечала сноха, – просто море в Кинкедбайте шумит! Пошли-ка домой! А то мне от Мэтью достанется.
– Ш-ш! Помолчи ты! Ты что же, думаешь, если Грей где-нибудь там выпалит из пушки, так я здесь его выстрел не услышу?
Вскоре после того, как он ушел в солдаты, от него пришло письмо из Англии. Он писал, что быть солдатом в Англии – это совсем не то, что быть корабельщиком в Клайдсайде, и что он скоро напишет еще. И он писал им примерно раз в месяц и опять писал, что в солдатах служить – это не то что корабли строить и что дождь у них все идет. Потом семь месяцев от него не было ни слова. Но мать с отцом писали ему аккуратно в первый понедельник каждого месяца. Писали они вместе, и каждое письмо было точь-в-точь как предыдущее или как все предыдущие.
"Мы здоровы. Корабли выходят из устья Клайда скорее, чем те успевают их топить. Цела ли у тебя Библия?" – это было написано упрямой неторопливой рукой отца, а затем рукой матери: "Здоров ли ты? Не нужно ли тебе чего-нибудь? Джесси и я вяжем тебе чулки и скоро пошлем. Алек, Алек!" Это было единственное письмо, которое он получил за те семь месяцев, что он отбывал в штрафном батальоне; это письмо переправил его бывший командир, потому что Алек не написал домой о перемене в своей жизни. Он писал ответ на это письмо, примостившись на корточках в грязи, среди своих злополучных собратьев, обложенный снизу доверху газетной бумагой, засунутой под солдатскую куртку, – голова и ноги в обмотках из разорванного на лоскуты одеяла.
"Я здоров. Да, Библия у меня цела (он не писал им, что из нее здесь заворачивают цигарки и раскурили уже далеко за "Плач Иеремии"). Дождь все идет. Кланяюсь дедушке, Джесси, Мэтью и Джону Уэсли".
Наконец срок его пребывания в штрафном батальоне кончился. Он вернулся в свое прежнее отделение, в свою роту, увидел там новые лица, и ему вручили письмо из дома.
"Мы здоровы. Спускаем по-прежнему корабли на Клайд. У тебя появилась сестричка. Мать здорова".
Он сложил письмо и спрятал его.
– Новичков много у нас в батальоне, – сказал он сержанту. – И старшего нашего, видно, тоже сменили?
– Не-ет, – ответил сержант, – все тот же.
Он с любопытством приглядывался к Грею, уставившись на него пристальным, внимательным взглядом, и вдруг лицо у него прояснилось.
– А ты побрился нынче! – сказал он.
– Ага, – ответил Грей. – Теперь время вышло, можно бриться.
Это было вечером, а ночью батальон отправлялся в Аррас. Выступить должны были в полночь. Поэтому он сейчас же сел писать ответ.
"Я здоров. Кланяюсь дедушке, Джесси, Мэтью, Джону Уэсли и малышке".
– Приветствую, приветствую! – Генерал в плаще с капюшоном, высунувшись из автомобиля, машет рукой в перчатке и весело здоровается, в то время как они, хлюпая по грязи, обходят его машину на Бапомской дороге, сворачивая в канаву, чтобы пройти.
– Резвый папашка! – говорит кто-то.
– Офицерье! – ворчит другой и разражается ругательствами, поскользнувшись в вязкой глине и стараясь удержаться на скользком откосе канавы, где грязь по колено.
– Ничего, – отзывается третий. – Офицеры тоже воевать идут!
– Воевать? А чего же они тогда не туда идут? – говорит четвертый. Война-то вон где, а они куда? Совсем не в ту сторону катят.
Взвод за взводом, хлюпая и съезжая в канаву, едва вытаскивая из вязкой глины облепленные башмаки, они обходят машину и снова с проклятьями карабкаются по откосу наверх, на дорогу.
– Он-то мне говорит: у бошей, говорит, новая пушка, как выстрелят, снаряд прямо до Парижа летит. А я ему говорю: это, говорю, что! У него и почище есть. Как выстрелит, так весь наш главный штаб разнесет!
– Приветствую, приветствую! – Генерал продолжает помахивать перчаткой и весело покрикивает проходящим колоннам, которые сворачивают в канаву и снова карабкаются наверх, на дорогу.
Они в окопе. Они не слышали ни одного выстрела, пока прямо у них под носом не щелкнула первая винтовка. Грей ползет третьим. Все время, пока они между вспышками ракет переползают от одной воронки к другой, он старается подползти поближе к старшему сержанту и к командиру своего отделения. В ярком огне первого выстрела он видит прорыв в колючей проволоке, куда их ведет командир, – разъятые, искореженные концы, отсвечивающие в тех местах, где пули сорвали с них ржавчину и грязь, – и высокую, неуклюже прыгающую фигуру старшего сержанта. И Грей с винтовкой наперевес прыгает за ним в окоп, туда, в свалку, где хрип, стоны, крики, возня и глухие удары.
Ракеты теперь вспыхивают пачками; в их мертвенном свете Грей видит, как старший сержант методично, одну за другой швыряет гранаты в ближний ход сообщения. Он бежит к нему, минуя командира, который стоит, согнувшись вдвое, прислонившись к стрелковой амбразуре. Старший сержант уже исчез за первым поворотом. Грей бежит за ним, нагоняет его. Откинув одной рукой конец брезента, старший сержант швыряет другой рукой гранату в землянку, точно он швыряет куда-то в подвал кожуру от апельсина.
Вспыхивает ракета, старший сержант оборачивается.
– Это ты, Грей, – говорит он. Глухо взрывается граната. Старший сержант сует руку в мешок, чтобы достать еще гранату, – штык Грея вонзается ему в горло Старший сержант – человек рослый, грузный. Он валится на спину, схватившись обеими руками за ствол винтовки, прижатой к его горлу, зубы его сверкают, он падает и тянет за собой Грея. Грей не выпускает винтовку из рук. Он старается стряхнуть со штыка проткнутое тело, как будто это крыса, которую он проткнул кончиком зонта.
Наконец он выдернул штык. Старший сержант рухнул наземь. Грей поворачивает винтовку и молотит сержанта прикладом по лицу... Но земля в окопе слишком рыхлая, она оседает. Грей быстро оглядывается по сторонам. Взгляд падает на наполовину затопленную в грязи доску. Он подтаскивает ее под голову сержанта и снова молотит его прикладом по лицу. Позади, в первой траншее, раздается команда офицера:
– Сигнал отходить, старший сержант!
IV
В приказе о награждении сказано, что рядовой Грей – один из четверых, уцелевших во время ночной вылазки, после того как старший командир, тяжело раненный, выбыл из строя, а младшие командиры все до одного погибли, с честью вышел из создавшегося положения (цель вылазки ограничивалась захватом языка) – продержался на переднем крае противника, пока не подоспела помощь и не закрепили захваченную позицию. Старший командир рассказывает, как он отдал команду отходить, приказав солдатам оставить его и спасаться, и как Грей в эту минуту появился откуда-то с немецким пулеметом; пока трое его товарищей строили заграждение, Грей, выхватив у командира сигнальный патрон, успел выпустить цветную ракету, требующую подкрепления. Все это произошло так молниеносно, что помощь подоспела прежде, чем противник успел предпринять контратаку или открыть заградительный огонь.
Сомнительно, чтобы кому-нибудь из его домашних попался на глаза этот приказ о награждении. Во всяком случае, письма, которые приходили от них, пока он лежал в госпитале, не отличались по своему содержанию от прежних. "Мы здоровы, все так же спускаем корабли на Клайд".
От него опять не было письма несколько месяцев. Он написал им, когда уже мог сидеть, из Лондона: "Я был ранен, теперь поправляюсь. Я получил ленту, такую же, как в шкатулке. Только она не вся красная. Сюда приезжала королева. Кланяюсь дедушке, Джесси, Мэтью, Джону Уэсли и малышке". Ответ был написан в пятницу: "Мать рада, что ты поправляешься. Дедушка помер. Малышку окрестили Элизабет. Мы здоровы. Мать кланяется". Он ответил через три месяца, уже зимой: "Рана моя зажила. Я поступаю в офицерское училище. Кланяюсь Джесси, Мэтью, Джону Уэсли и Элизабет".
Мэтью Грей долго раздумывал над этим письмом. Так долго, что ответил на неделю позже, – не в первый понедельник месяца, а во второй. Он приложил много стараний, чтобы ответить на него, и сел писать только после того, как все улеглись спать. Это было такое длинное письмо – или он так долго сидел над ним, – что через некоторое время жена вышла к нему в ночной сорочке.
– Ступай спать! – сказал он. – Я скоро приду. Надо вразумить малого.
Когда наконец он положил перо и, откинувшись в кресле, стал перечитывать написанное, письмо оказалось длинное, оно было написано осмотрительно, обдуманно, безо всяких перечеркиваний и помарок.
"...Эту ленточку твою... ибо тебя ведут тщеславие и гордыня. Гордыня и тщеславие пробиться в офицеры. Не отрекайся от своих, Алек, никогда не отрекайся! Ты не джентльмен, ты – шотландский корабельщик. Коли бы дед твой был жив, он первый сказал бы тебе то же. Мы радуемся, что рана твоя зажила. Мать кланяется тебе".
Алек послал домой медаль и фотографию: в новой форме со звездочками на погонах, с ленточкой от медали и нашивками на рукавах. Но сам не поехал домой. Он вернулся во Фландрию весной, когда цвели маки на развороченных снарядами капустных и свекловичных полях. А когда получил увольнение на несколько дней, провел их в Лондоне, толкаясь в офицерском собрании, а своим не написал, что он в отпуске.
Он все еще хранил Библию. Иногда, роясь а своих вещах, он натыкался на нее и открывал на той самой странице с оборванными углами, на которой перевернулась его жизнь:
"...и был глас к нему: "Встань, Петр, заколи"2.
Его денщик часто наблюдал за ним, когда он, задумавшись, не замечая ничего вокруг, перелистывал Библию и подолгу задерживался на оборванной странице, – этот вышедший из рядовых в офицеры, угрюмый, нелюдимый человек, по лицу которого никак не угадаешь, сколько ему лет, и не поверишь, что так мало: выдержка, хладнокровие, трезвое самообладание зрелости, спокойная убежденность в жестах, в выражении лица. "Ну прямо тебе генерал, сам Хейг, главнокомандующий"3, – думал денщик, глядя, как тот сидит за своим чисто прибранным столом и пишет неторопливо, старательно, подпирая щеку языком, как делают дети: "Я здоров. Дождя уже две недели нет. Кланяюсь Джесси, Мэтью, Джону Уэсли и Элизабет".
Четыре дня тому назад батальон вернулся с передовой. Они потеряли командира батальона, двух капитанов и большую часть младших офицеров, так что теперь оставшийся в живых капитан командует батальоном, а два младших офицера и сержант командуют ротами. Сейчас производятся назначения, перемещения, а завтра батальон опять выступает. Поэтому сегодня третья рота выстроилась на поверку, и лейтенант (фамилия – Грей) медленно проходит вдоль строя, от взвода к взводу.
Он осматривает одного рядового за другим медленно, внимательно; позади него идет сержант. Лейтенант останавливается.
– Где шанцевый инструмент? – спрашивает он.
– Взрывом вырв... – говорит солдат. Затем умолкает и смотрит неподвижно прямо перед собой.
– Взрывом из сумки? заканчивает за него командир. – Когда случилось? В каком бою были за четыре дня?
Солдат неподвижно смотрит через уснувшую улицу прямо перед собой.
Командир проходит дальше.
– Наложить взыскание, сержант!
Он переходит ко второму взводу, к третьему. Опять останавливается. Окидывает взглядом солдата с ног до головы:
– Фамилия?
– Ноль сто восемь ноль один, Маклэн, сэр!
– Вновь прибывший?
– Вновь прибывший, сэр.
Командир проходит дальше.
– Наложить взыскание, сержант: винтовка нечищена.
Солнце садится. Деревня выступает черным контуром на закатном небе. Река блестит вся в отраженном пламени. Мост через реку – черная дуга, и по ней медленно, похожие на силуэты из черной бумаги, движутся солдаты.
Отряд залег в придорожном рву, и командир с сержантом осторожно выглядывают из-за бруствера.
– Ну как? Различить можно? – спрашивает командир.
– Боши, сэр! – шепчет сержант. – По каскам узнаю.
Колонна уже перешла через мост. Командир и сержант сползают обратно в ров, где, скучившись, сидят солдаты; среди них один раненый с повязкой на голове.
– Смотрите, чтобы помалкивал! – говорит командир.
Он ведет свой отряд по рву, пока они не добираются до околицы. Здесь уже нет солнца, и они тихонько усаживаются у ограды, окружив раненого, а командир с сержантом снова ползут на разведку. Минут через пять они возвращаются.
– Примкнуть штыки! – шепотом командует сержант. – Ну! Тихо!
– А раненого на кого оставим? – шепчет кто-то.
– Ни на кого, – отвечает сержант. – С собой заберем... Вперед!
Они бесшумно крадутся вдоль ограды вслед за командиром. Ограда с двух сторон выходит на улицу, на ту самую дорогу, что ведет к мосту. Командир поднимает руку. Они застывают на месте, следят, притаившись, как он осторожно выглядывает из-за угла. Они напротив предмостного укрепления. И тут и на дороге – ни души. Деревня мирно дремлет в зареве заката. На том краю пыль от уходящей колонны висит в воздухе, розовая, золотая.
Но вот они слышат какой-то звук: отрывистую гортанную команду. Всего в каких-нибудь десяти ярдах от них, прямо против моста, за разрушенной стеной, высотой примерно по плечо человеку, сидят четверо возле пулемета. Командир снова поднимает руку. Они хватаются за винтовки: топот подбитых железом каблуков по булыжной мостовой, изумленный возглас, тут же обрывающийся, удары, возня, короткое, тяжкое сопенье, ругань, – ни единого выстрела.
Солдат с забинтованной головой начинает смеяться громко, пронзительно, пока кто-то не затыкает ему рот рукой, от которой несет медью. Командир ведет их к крыльцу, и они вваливаются за ним в дом, волоча за собой пулемет и четыре трупа. Пулемет втаскивают наверх по лестнице и устанавливают его в окне, наведя на предмостное укрепление. Солнце опускается ниже, длинные неподвижные тени ложатся через деревню, через реку.
Солдат с забинтованной головой что-то непрерывно бормочет.
На дороге появляется еще колонна солдат; они движутся неуклонно, мерно под черными судками касок. Проходят по мосту, шагают по деревне. От хвоста колонны отделяется отряд и разбивается на три команды. Две из них с пулеметами. Они устанавливают их по обе стороны улицы. И та, что поближе к дому, укрывается за той же стеной, где только что захватили пулемет. Третья команда с саперными инструментами и взрывчаткой возвращается к мосту. Сержант отзывает шестерых человек из девятнадцати, и они бесшумно спускаются по лестнице. Командир остается с пулеметом у окна.
Снова топот, короткая возня, удары. Из окна командир видит, как головы пулеметчиков по ту сторону улицы поворачиваются, пулемет вздрагивает и начинает строчить. Командир дает по ним очередь и тут же переносит огонь на команду, которая взошла на мост. Он смотрит, как они бросаются врассыпную, словно стая перепелов, и бегут сломя голову к укрытию, к ближайшей стене. Он продолжает строчить по ним из пулемета. Они бегут, усеивая белую дорогу черными точками. И вот они уже все неподвижны. Он снова переносит огонь на пулемет по ту сторону дороги. Пулемет замолкает.
Он дает команду, и солдаты, оставшиеся с ним, все, за исключением того, с повязкой на голове, бегут вниз по лестнице. Половина из них бросается к пулемету под окном и старается подтащить его к крыльцу. Остальные бегут через улицу ко второму пулемету. Они уже наполовину добежали, как вдруг начинает трещать пулемет. Все разом бросаются наземь. Их юбки заворачиваются кверху, обнажая бледные ляжки. Пулемет строчит по входу в дом, по кучке солдат, которые стараются вытащить первый пулемет из-под трупов. Командир снова дает очередь, и в это время слева над подоконником поднимается облако пыли, что-то с резким металлическим звуком ударяет по пулемету, обжигает командиру руку и бок, и справа над подоконником поднимается облачко пыли. Он опять дает очередь по пулемету. Тот замолкает. Он не перестает строчить по этой куче еще долго после того, как пулемет замолчал.
Черная земля врезается в край солнца. Улица теперь уже вся в тени. Последний низкий луч заглядывает в комнату и гаснет. За спиною командира в сумерках громко смеется раненый, потом смех его переходит в невнятное довольное бормотание.
Незадолго до темноты на мосту появляется отряд. Пока еще не совсем смерклось, можно разглядеть, что солдаты в хаки и каски у них плоские, но разглядывать уже некому, потому что, когда несколько человек из отряда поднялись наверх, командир лежал поперек окна около остывшего пулемета, и они решили, что он мертвый.
На этот раз Мэтью Грей прочел приказ о награждении. Кто-то вырезал из газеты и прислал ему, а потом он переслал сыну с письмом в госпиталь.
"...Раз уж тебе вышло пойти на войну, мы рады за тебя, что ты так отличаешься. Мать думает, что ты уже свое отбыл и что пора тебе вернуться домой. Да, женщины в таких делах не понимают. Но я и сам думаю: пора кончать, повоевали. Что толку? Жалованье прибавляют, а харчи такие дорогие, что никому от этого никакой пользы, кроме спекулянтов. Когда уж до того довоевались, что и от побед проку нет и никакого преуспеяния для народа, который побеждает, тогда, значит, пора кончать войну".
V
Рядом с Греем на койке, а потом в кресле на длинной стеклянной веранде лежал лейтенант. Они часто разговаривали. Собственно, разговаривал лейтенант, а Грей слушал. Лейтенант заводил разговор о мире, о том, что он будет делать после войны, и говорил так, как будто война вот-вот кончится и вряд ли затянется до Рождества.
– К Рождеству мы с вами опять будем там, – сказал Грей.
– Это после отравления-то газами? Таких больше на передовую не посылают. Надо сначала вылечить.
– Вылечат.
– До тех пор не успеют. К Рождеству все кончится. Не может это еще на год затянуться. Не верите? Мне иной раз кажется, что вам просто хочется вернуться на фронт. Но вот увидите, к Рождеству кончится, и я сейчас же двинусь куда-нибудь подальше. В Канаду. Здесь нам теперь нечего будет делать.
Он поглядел на соседа: осунувшееся, изможденное лицо, голова почти сплошь седая, лежит, закрыв глаза, греется на осеннем солнце.
– И вам тоже советую... Едем-ка вместе!..
– Мы с вами еще встретимся в Живанши на Рождество, – сказал Грей.
Но они не встретились. Одиннадцатого ноября4 он был в госпитале. Слышал, как звонят колокола. И на Рождество он был еще там. Получил письмо из дому.
"Теперь тебе уже можно домой приехать. Сейчас самое время. Нынче им корабли пуще прежнего нужны будут. Потешились они своей гордыней и тщеславием, теперь кончено".
Военный врач весело приветствовал его:
– Эх, черт, застряли мы с вами здесь; вот бы сейчас очутиться в Девоне... соловьи поют, самое время. – Он простукивал ему грудь. – Так, пустяки, шумок маленький. Беспокоить вас не будет. Ну, от войн надо подальше держаться. И это вам, пожалуй, поможет, с этим вас другой раз не потянут. Он ждал, что Грей улыбнется, но Грей не улыбнулся. – Ну их к дьяволу! Теперь все кончено. Распишитесь-ка вот здесь. – Грей расписался. – Будем надеяться, что все это так же быстро забудется, как началось. Ну, желаю вам! – Он протянул руку, улыбаясь своей профессиональной, антисептической улыбкой. Бодрее, капитан! Желаю удачи.
В семь часов утра Мэтью Грей, спускаясь с холма, увидел высокого человека с лицом больничного цвета, одетого по-городскому, с тростью в руке, – и остановился.
– Алек... – произнес он. – Алек...
Они поздоровались за руку.
– А ведь я не... Вот ты... – Он смотрел на сына, на его седую голову, на закрученные иголочками усы. – Так, значит, ты писал: у тебя теперь две ленточки для шкатулки. – И в семь часов утра Мэтью Грей повернул обратно домой. – К матери пойдем.
И тут на минуту вернулся прежний Алек. Может быть, он не так далеко ушел, как ему казалось, а может быть оттого, что он поднимался в гору, это внезапное возвращение – пусть даже на один-единственный миг – было для него чем-то вроде обвала, который совершается так же мгновенно: сорвался камень и покатилась лавина.
– Пойдем на верфь, отец!
Отец твердо шагал впереди и нес свой судок с завтраком.
– Успеется, – отвечал он сыну.– Пойдем к матери!
Мать встретила его в дверях. А за ней он увидел Пратца Мэтью, который теперь уже стал взрослым, и Джона Уэсли. И Элизабет, которой он никогда не видел.
– Ты, значит, домой, форму-то не надел? – спросил братец Мэтью.
– Нет, – отвечал он. – Нет, я...
– Матери хотелось поглядеть на тебя в полной форме, со всеми моими отличиями, – сказал отец.
– Нет! – воскликнула мать. Нет, нет. Не надо.
– Полно, Энни, – сказал отец. – Он теперь капитан Две ленточки у него будут лежать в шкатулке. Чего скромничать. Храбрецом показал себя. Как и должно. Ну, теперь не до того. Настоящая форма для Грея – это рабочие штаны да молоток.
– Да, сэр, – сказал Алек, который уж давно понял, что ни одному человеку не дано храбрости, но что любой может нечаянно угодить в храбрецы, вот так же, как любой может оступиться на улице и угодить в зияющий люк.
Он ничего не говорил отцу до самого вечера, пока мать и дети не улеглись спать.
– Я поеду обратно в Англию, мне обещали работу.
– Ага, – протянул отец, – в Бристоль, что ли? Там тоже корабли строят.
Ярко горела лампа, и чуть поблескивали слабые блики на черной полированной крышке дедовой шкатулки. За окном шумел ветер, нагонял облака, и небо становилось похожим на темную глубокую миску, а дом, пригорок и мыс вырезались из черной пустоты. – Ночью непогода будет, – сказал отец.
– Можно и кое-что другое делать, – сказал Алек. – У меня там друзья есть.
Отец снял очки в стальной оправе.
– Друзья, говоришь? Военные, верно, офицеры?
– Да, сэр.
– Друзей оно хорошо иметь, посидеть с ними вечерок у огонька, поговорить, ну, а кроме-то... ведь только те, кто любят тебя, стерпят твои недостатки. Крепко надо любить человека, Алек, чтобы все его несносные привычки терпеть.
– Да это не такие друзья, сэр, просто... – И он замолчал. Он не смотрел на отца. Мэтью сидел молча и медленно протирал большим пальцем очки. Слышно было, как шумит ветер. – Если у меня не выйдет, вернусь сюда, на верфи буду работать.
Отец посмотрел на него задумчиво, все так же медленно протирая очки.
– Не такая это работа, Алек, корабли строить. Тут надо Бога бояться и так свое дело делать, как если бы ты себе в собственную грудь ребра вставлял. – Он повернулся на стуле. – Посмотрим, что скажет священное писание. – Надел очки. На столе лежала тяжелая, с медными застежками Библия. Он открыл ее. Слова сами словно отделились от страницы и бросились ему навстречу. Он все-таки прочел вслух, "...и военачальники – тысячники и десятитысячники...5" – О гордыне это. – Он посмотрел на сына, нагнув голову, чтобы видеть поверх очков. – Значит, в Лондон поедешь?
Да, сэр, – сказал Алек.
VI
Место, которое ему обещали, осталось за ним. Служба в конторе. Он уже раньше заказал себе визитные карточки: капитан А. Грей, В. К., Б. 3.6 А когда вернулся в Лондон, записался в члены офицерского общества, пожертвовал на вдов и сирот.
Он поселился в приличном квартале и ходил пешком на службу и со службы – в строгом корректном костюме с визитными карточками в кармане, нафабренные усы, туго закрученные иголочками, в руке трость, которую он держал с неподражаемой корректностью, небрежно и вместе с тем без всякой развязности. Он подавал медяки слепым и калекам на Пикадилли, расспрашивал их, какого полка. Раз в месяц писал письма домой: "Я здоров. Кланяюсь Джесси, Мэтью, Джону Уэсли и Элизабет".
В этот первый год его жизни в Лондоне Джесси вышла замуж. Он послал ей какую-то серебряную вещицу. Ему пришлось ущемить себя немножко ради этого, взять из своих сбережений. Он копил не на старость, нет, для этого он слишком верил в империю, он предался ей слепо, душой и телом, как женщина, как невеста. Он копил деньги на то время, когда у него будет возможность поехать опять на континент, посетить мертвые развалины своей утраченной и вновь обретенной жизни.
Это произошло через три года. Он уже собирался просить отпуск, когда его начальник сам заговорил с ним об этом. Он поехал во Францию, взяв с собой один корректный чемоданчик. Но он не сразу направился на восток. Он поехал на Ривьеру и пробыл там неделю, жил, как джентльмен, и деньги тратил, как джентльмен, один, ни с кем не общаясь в этом разнопером птичнике холеных кокоток со всей Европы.
Вот почему те, кто видел его в то утро в Париже, когда он выходил из средиземноморского экспресса, говорили: "Богатый, верно, милорд!" И то же самое говорили про него и в местном поезде в вагоне третьего класса, где он сидел неподвижно, опершись на свою трость, беззвучно произнося губами названия станций на домиках из рифленого железа среди изрытых снарядами пробуждающихся равнин, которые вот уже три года мирно покоились под бесчувственными непрерывными шеренгами дней.
Он вернулся в Лондон. И узнал то, что ему, собственно, следовало узнать до того, как он уехал. Его служба кончилась. "Времена, знаете, такие...", сказал ему начальник, с церемонной учтивостью называя его "капитан Грей".
Остатки его сбережений медленно таяли. Последние он истратил на черное шелковое платье для матери, которое он послал ей вместе с письмом: "Я здоров, поклон Мэтью, Джону Уэсли и Элизабет".
Он обошел всех своих знакомых офицеров, с которыми когда-то служил. Один из них, с которым он был ближе других, угостил его виски в хорошо обставленной комнате с камином.
– Так вы, значит, сейчас без работы? Да, не повезло... А кстати, помните Уайтби? Он командовал ротой в энском полку. Славный такой малый, да родных у него никого не было. Покончил с собой на прошлой неделе. Вот времена...
– Неужели? Да, я помню его. Вот не повезло...
– Да, ужасно не повезло. Такой славный малый.
Больше уж он не раздавал свои пенни слепым и калекам на Пикадилли. Нужны самому, покупать газеты.
"Требуются рабочие".
"Нужны каменщики".
"Требуются шоферы (послужной список не обязателен)".
"Приказчики (не старше 21 года)". "Требуются корабельные плотники".
И наконец:
"Джентльмен со светским обхождением и связями – Для обслуживания загородных клиентов. На время".
Это место он получил. Строго, корректно одетый, с нафабренными усами, он показывал Бирмингему и Лидсу изобилие и роскошь Вест-Энда.
Это длилось недолго.
"Чернорабочие ".
"Плотники".
"Маляры".
Зима тоже длилась недолго. Весной он отправился в Суррей в отутюженном костюме, с нафабренными усами – продавать энциклопедию на комиссионных началах.
Он прожил все, что у него было, оставил только то, что на нем, бросил свою комнату в городе.
У него сохранилась его трость, нафабренные усы, визитные карточки.
Мягкий зеленый теплый Суррей. Маленький опрятный домик в опрятном садике. Пожилой человек в куртке копается в цветочной грядке.
– Добрый день, сэр. Разрешите мне...
Человек в куртке поднимает голову: "Ступайте кругом, со двора, не знаете, что ли? Нельзя здесь ходить".
Он идет кругом. Деревянная калитка, свежевыкрашенная белой краской, и на ней эмалированная дощечка:
Уличным торговцам и нищим вход воспрещается
Он проходит через калитку и стучит в чистенькую дверцу, укрытую виноградом.
– Добрый день, мисс. Могу я повидать вашего...
– Уходите отсюда. Вы что, не видели надпись на калитке?
– Но я...
– Убирайтесь, говорят вам, а не то позову хозяина.
Осенью он вернулся в Лондон. Он, пожалуй, и сам не мог бы сказать почему. Да и вряд ли это выразишь словами; может быть, его инстинктивно потянуло назад как раз вовремя, чтобы поспеть к этому дню, не пропустить этой величественной манифестации7, апофеоза его жизни, которая теперь снова умерла. Как бы то ни было, он присутствовал там и стоял, вытянувшись во фронт, с закрученными усами, зажав левым локтем трость под мышкой. А кругом стояли ряды конной гвардии в медных кирасах на красавцах меринах, и королевская гвардия в алых мундирах, и воинствующая церковь в полном облачении, и монарх – защитник божий, в скромном сюртуке. Так он стоял навытяжку две минуты, прислушиваясь к отчаянию.
У него осталось еще тридцать шиллингов, он пополнил на них свой запас визитных карточек. Капитан А. Грей, В. К., Б. 3.
Обманчивый, бледный денек – хилый недоносок весны, раньше времени появившийся на свет, а до весны еще недели, а то и месяц. В бледном солнечном свете здания уходят ввысь, тают в розовой и золотой дымке. Женщины ходят с букетиками фиалок, приколотыми к меху, и сами они словно расцветают, как цветы, в этом пьянящем предательском воздухе.
Женщины-то и оглядываются на этого человека, прислонившегося к стене дома на углу. Изможденный, с седой головой, с туго закрученными иголочками усов, в выцветшем и потертом галстуке, заправленном в целлулоидный воротник, в костюме отличного покроя, но теперь уже сильно поношенном, хотя его, видно, тщательно отутюжили, и не дальше чем вчера, – он стоит с закрытыми глазами, прислонившись к стене, и держит в вытянутой руке истрепанную шляпу.
Так он стоит долго, пока кто-то не трогает его за плечо. Это полисмен.
– Проходите, сэр. Не разрешается.
В шляпе у него семь пенни и три полупенса. Он покупает себе кусок мыла и немножко еды.
Еще одна годовщина наступила и прошла. И опять он стоял, зажав трость под мышкой, среди блестящих, неподвижно застывших мундиров, в безмолвной толпе откровенных или отутюженных оборванцев с терпеливыми окаменевшими лицами. В глазах его уже нет смиренной надежды нищего, а горькое ожесточение, неслышный, как тень, отголосок горького беззвучного смеха, каким смеется горбун.
Чуть тлеет костер на покатой булыжной мостовой. В мигающем свете выступают сырая обомшелая стена набережной и каменная арка моста. Внизу, где мостовая подходит к самой воде, невидимая река булькает и плещется о камни.
Вокруг костра примостилось пятеро: кто лежит, прикрыв голову, кто будто дремлет, другие курят и разговаривают. Один сидит прямо, прислонившись к стене, опустив руки, – это слепой; он так спит. Говорит, что ему страшно лечь.
– Какая тебе разница – лежать или сидеть? Ты же все равно ничего не видишь.
– А коли случится что? – говорит слепой.
– А что случится? Бомбу на тебя, что ли, сбросят? Пожалеют, даже если бы ты от этого и прозрел.
– Бомбы-то для него не пожалели, – говорит третий. – Эх! Построили бы они нас всех в ряд да дернули бы разом к чертовой матери из пушек.
– Так, значит, он оттого и ослеп? – спрашивает
четвертый. – Снаряд, что ли?
– Ну, да. Под Монсом8 он был. Связист, на мотоцикле разъезжал. Расскажи им, братец.
Слепой чуть приподнимает лицо. Остается сидеть неподвижно. Говорит ровным, безжизненным голосом:
– Шрам у нее на руке был. Вот почему я и узнал; сам я ей, можно сказать, изуродовал руку-то. Как-то раз мы с ней вместе работали в мастерской. Я раздобыл старый мотор, и мы с ней прилаживали его к велосипеду, чтобы...
– Что это? – спрашивает четвертый. – Чего это он плетет?
– Ш-ш-ш, – останавливает первый. – Тише ты... Он про свою невесту рассказывает. У него когда-то своя мастерская была, ремонт велосипедов на Брайтон-роуд, и они должны были вот-вот пожениться. – Он говорит совсем тихо, звук его голоса глохнет в ровном, однообразном голосе слепого. – Когда он уходил в армию, в тот самый день, как он в первый раз форму надел, они пошли и снялись вместе. Он с этой карточкой не расставался, всегда при себе носил, да вот тут как-то недавно потерял. Что только с ним делалось, чуть с ума не сошел! Уж мы потом подсунули ему кусок картонки такой же примерно величины. Вот, говорим, братец, нашлась твоя карточка. Другой раз не теряй. Он ее и сейчас хранит, карточку-то. Вот подожди, он тебе ее покажет потом. Так смотри, не проговорись.
– Нет, – отвечает тот. – Не проговорюсь.
Слепой рассказывает:
– Ну, попросил кого-то там в госпитале написать, ей письмо, она, конечно, тут же приехала. Я ее по этому шраму на руке сразу узнал. Голос у нее вроде как стал другой, ну уж для меня после того все стало другое... А вот по рубцу я узнал. Так вот мы с ней, бывало, сидим и держимся за руки, и я потихоньку пальцем вожу по этому рубцу на левой ладони. И когда в кинематографе, тоже держу за руку, поглаживаю рубец и будто...
– В кинематографе? – спрашивает четвертый. – Что ему там делать-то?
– Да вот поди-ка, – шепчет первый, – она водила его в кинематограф, когда комедии показывали, он слушал, как люди смеются...
Слепой рассказывает:
– Говорит мне, глаза у нее болят на экран смотреть и чтобы я посидел один, а она за мной потом зайдет, как сеанс кончится. Ну, я говорю, хорошо. И на следующий вечер тоже, и опять я соглашаюсь. А уж на третий вечер я говорю: нет, я тоже не пойду. Давай, говорю, посидим дома, в госпитале. А она в ответ молчит, долго молчит, слышу только, как дышит тяжело. А потом говорит: ну, что УК, посидим. После этого уж мы с ней не ходили в кинематограф. А как вечер, садимся рядом, держимся за руки, и я потихоньку поглаживаю этот ее рубец. В госпитале громко говорить не разрешали, так мы с ней все шепотом, а то так и вовсе молчим, просто держимся за руки. Так вот неделя и прошла; я день за днем считал. Это было на восьмой вечер. Сидим мы с ней, как всегда, и я держу ее руку и нет-нет да и поглажу рубец. Вдруг она как выдернет руку, – слышу, вскочила с места. Не могу, говорит, не может это так дальше продолжаться. Все равно, должен ты когда-нибудь узнать. Я ей говорю: ничего я не хочу знать, скажи только, говорю, как тебя зовут. Она мне и сказала, сиделка она была здешняя, из госпиталя. И тут она мне...
– Что такое? – говорит четвертый. – Что он такое городит?
– Что, ты не понял? – шепчет первый. – Сиделка это была из госпиталя. Девчонка-то его спуталась с другим, а вместо себя сиделку посадила, чтобы за руку его держала, думала, он не узнает.
– А он, значит, узнал? – спрашивает четвертый.
– Да ты слушай, – говорит первый.
– Так, значит, ты, говорит, с самого начала знал? С первого же раза? Я, говорю, по рубцу узнал. Он у тебя не на той руке, на правой он у тебя ладони. А я его позавчера, говорю, нечаянно ногтем поддел. Что такое, думаю, пластырь, что ли? – Слепой сидит, прислонившись к стене, лицо чуть приподнято, опущенные руки неподвижно лежат на земле. – Вот так я и узнал по рубцу. Думали, обмануть меня можно, когда сам же я ей руку-то повредил.
Человек, который лежит ничком на земле по ту сторону костра, поднимает голову.
– Ш-ш! – говорит он. – Идет!
– Кто идет? – спрашивает слепой. – Обход?
Ему не отвечают. Из-за стены появляется фигура – высокий человек с палкой в руках. Все замолкают, кроме слепого, и смотрят на приближающуюся фигуру высокого человека.
– Кто идет, братцы? – спрашивает слепой. – Братцы?
Высокий проходит мимо них, мимо костра. Не смотрит ни на кого.
– Следи теперь, – шепчет второй.
Слепой слегка наклоняется вперед, шарит руками по земле возле себя, словно собирается встать.
– За кем следи? – спрашивает он. – Что вы там видите? – Никто не отвечает. Они следят украдкой за вновь прибывшим, смотрят, как он раздевается и как потом эта белая тень призрачно скользит в темноте, спускается к воде и моется, громко плескаясь, шлепая по телу пригоршнями грязной ледяной речной воды. Он возвращается, подходит к костру. Все мигом отворачиваются, кроме слепого (тот сидит, по-прежнему подавшись вперед, упершись руками в землю, вот-вот поднимется, серое лицо настороженно тянется к звуку, к шорохам) и еще одного у костра.
– Камни ваши готовы, сэр, – говорит тот, что у костра. – Я их в самый жар положил.
– Благодарю вас, – отвечает вновь прибывший. Он по-прежнему как будто совершенно не замечает их присутствия, и они опять молча следят, как он расстилает свою затрепанную одежду на одном камне, достает из костра другой камень и разглаживает ее. В то время как он одевается, тот, что заговорил с ним, идет вниз, к воде, и возвращается с куском мыла, которым мылся высокий. Остальные следят и видят, как высокий водит пальцами по куску мыла, потом подносит их к усам и туго закручивает концы, пока они не встают иголочками.
– Чуточку еще левый, сэр, – говорит тот, что держит мыло. Высокий намыливает кончики пальцев и снова подкручивает левый ус. Тот смотрит на него, нагнув голову набок, слегка откинув ее назад. Весь его вид, одежда, поза – сущая карикатура, пугало.
– Так теперь? – спрашивает высокий.
– Так хорошо, сэр, – отвечает пугало, ныряет в темноту и возвращается уже без мыла; в руках у него шляпа и трость. Высокий берет у него из рук то и другое. Вытаскивает из кармана монетку, сует в руку пугала. Пугало прикладывает руку к козырьку. Высокий уходит. Те смотрят ему вслед: высокая фигура, прямая спина, трость исчезают в темноте.
– Что вы там видите, братцы? – говорит слепой. – Да ответьте же человеку, что вы там видите?
VII
Среди демобилизованных офицеров, которые эмигрировали из Англии после перемирия, был лейтенант Уолкли. Он уехал в Канаду, выращивал там пшеницу и преуспел в этом, поправил свои дела и сам поправился. И так хорошо поправился, что, пожалуй, если бы его увидели на Лионском вокзале в Париже, а не на Пикадилли в Лондоне, куда он пошел прогуляться вечером (это был сочельник) в первый же день своего возвращения на родину, наверно, про него сказали бы: "Вот богатый милорд, да здоровый какой!"
Он уже успел достаточно походить по Лондону, обновил свой гардероб, приоделся, и сейчас во всем новеньком (от портного, который в прежнее время был бы ему не по карману) он был всем так доволен, что ему даже не хотелось никуда идти. Он просто бродил по улицам, запруженным оживленной толпой, и вдруг остановился как вкопанный, уставившись на какого-то человека. Человек был почти седой, с туго закрученными усами; на шее порыжевший галстук, на котором с трудом можно разобрать цвета и отличительные знаки полка; изношенный костюм тщательно выглажен; в руках трость. Он стоял на краю тротуара и как будто обращался с чем-то к прохожим. Уолкли вдруг рванулся к этому человеку, протянув руку. Но человек смотрел на него безжизненными, невидящими глазами.
– Грей! – вскричал Уолкли. – Вы что, не узнаете меня?
Но тот смотрел на него все тем же мертвым, остановившимся взглядом.
– В госпитале мы с вами вместе лежали! Я потом в Канаду уехал. Ну, вспомнили, а?
– Да, – ответил тот. – Я вас помню. Вы – Уолкли.
Он уже не смотрел на Уолкли. Он отошел на шаг и снова повернулся к толпе, протягивая руку. И тут только Уолкли заметил, что в руке у него несколько коробок спичек, три-четыре коробочки, которые в любом табачном киоске можно купить, – пенни коробка.
– Спички, спички, сэр, – повторял он, – угодно спички?
Уолкли тоже шагнул и снова очутился против него.
– Грей, – сказал он.
Тот опять поглядел на Уолкли, на этот раз со сдержанной, но клокочущей яростью. – Не лезь ко мне, сукин сын, – произнес он и тотчас же снова повернулся к толпе прохожих:
– Спички, спички, сэр, не угодно ли спички, – монотонно выкликал он.
Уолкли отошел. Но через несколько шагов снова остановился, оглянулся через плечо на неподвижное лицо с нафабренными закрученными усами. И тот снова посмотрел на него в упор, но тотчас же взгляд его скользнул мимо, словно он не узнал. Уолкли зашагал прочь. Пошел быстро, машинально ускоряя шаг.
– Боже мой, – повторял он. – Кажется, меня сейчас вырвет.
Примечания:
1. - Крест Виктории - высший военный орден Великобритании (учрежден королевой Викторией в 1856 г.). Им награждаются солдаты и матросы, совершившие боевой подвиг.
2. - ... и был глас к нему: "Встань, Петр, заколи. - Деяния св. Апостолов, 10, 13.
3. Хейг - Дуглас Хейг (1861-1928) - британский генерал; с 1915 по 1918 г. главнокомандующий английскими войсками, которые во время Первой мировой войны сражались на территории Франции и других европейских стран.
4. Одиннадцатого ноября... - 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу на севере Франции было подписано перемирие между Германией и союзниками, положившее конец Первой мировой войне.
5. ...и военачальники - тысячники и десятитысячники... - стилизация под цитату из Ветхого завета, где формулы этого типа имеют несколько иной вид. Ср., например: "И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны..." (Числа, 31, 14) и т. п.
6. - В. К. - кавалер ордена "Военный крест" (учрежден в 1914 г.), которым награждались младшие офицеры, особо отличившиеся в боях.
Б. 3. - кавалер ордена "За боевые заслуги" (учрежден в 1886 г.; у Фолкнера ошибочно назван медалью).
7. ...чтобы поспеть к этому дню, не пропустить этой величественной манифестации... - Имеется в виду очередная годовщина заключения перемирия 11 ноября, которая с 1919 по 1946 г. торжественно отмечалась в Великобритании как день поминовения павших. Официальная церемония, на которой присутствовали члены королевской семьи, проводилась у обелиска, воздвигнутого на лондонской улице Уайтхолл в память о погибших, и включала две минуты молчания.
8. Под Монсом он был. - Монс - город в Бельгии, близ которого произошло первое сражение между германскими и британскими войсками в начале Первой мировой войны. Понеся тяжелые потери, англичане были вынуждены отступить.