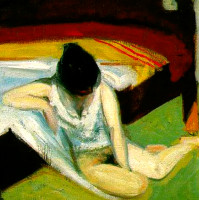Ad astra
Уильям Фолкнер
К звёздам - лат.
Кем мы были тогда – не знаю. За исключением Комина все мы вначале были американцами, но прошло три года, к тому же мы, в своих британских кителях с британскими пилотскими "крылышками", а кое у кого и с орденской лентой, на мой взгляд, не очень все эти три года вдумывались в то, кем мы были, даже не пытались ни разобраться, ни вспомнить.
А в тот день, вернее – в тот вечер, у нас и этого не осталось, а может, добавилось нечто большее; мы были либо ниже, либо где-то за гранью знания, которым даже не пытались обременить себя все эти три года. Наш субадар1 потом и он к нам присоединился, в своем тюрбане и со своими самовольно прицепленными майорскими звездочками, – сказал, что мы похожи на людей, пытающихся бежать в воде.
– Но скоро это рассеется, – заявил он. – Все эти миазмы ненависти и суесловия. Мы похожи на людей, пытающихся бежать в воде: набрав воздуха в легкие, мы наблюдаем за движениями своих ужасающе никчемных конечностей, видим друг друга в этом ступоре, в этом ужасающем оцепенении, но нам не дотянуться, не помочь друг другу, у нас отнято все, кроме бессилия, кроме беды.
Мы были уже в машине, ехали в Амьен, за рулем сидел Сарторис, рядом на переднем сиденье был Комин, возвышался на полголовы над Сарторисом, словно чучело для штыковых учений, а субадар, Блэнд и я разместились сзади, и у каждого в карманах было по бутылке или по две. То есть за исключением субадара, конечно. Он был коренастым, маленьким и плотно сбитым и при этом трезвости непомерной. В алкогольном мальстреме, куда вверглись все прочие, пытаясь убежать от неизбывности самих себя, он был как скала и спокойно вещал своим густым басом, который был ему велик на четыре размера: "В своей стране я был князем. Но все люди братья".
Однако по прошествии двенадцати лет мне представляется, что мы были вроде жучков в той пленке, что собирается у поверхности воды – отъединенных и неутомимых в своей бесцельной дерготне. Не на самой поверхности, а именно в этой пленке – в пограничной полосе, которая уже не воздух, но еще и не вода – плавали, то погружаясь, то всплывая. Вы видели, должно быть, как в укромную бухту накатывает уже усмиренная волна: мелководье, бухточка тихая, слегка зловещая самим своим сытым уютом, а где-то за темным горизонтом еще рокочет умирающий шторм. Вот такая была вода, а мы – всякий сор на ней. Даже через двенадцать лет не вырисовывается ничего более ясного. И ни начала этому не было, ни конца. Из ниоткуда взывали мы, не замечая ни шторма, которого избегли, ни чужих берегов, которых нам было не избежать, – кричали о том, что между двумя накатами зыби мы умираем: те, кто был слишком молод для этой жизни.
Посреди дороги мы остановились, чтобы еще раз выпить. Вокруг было темно и пустынно. И тихо – это чувствовалось, замечалось сразу. Слышно было, как дышит земля, словно выходя из-под наркоза, словно она не знает еще, не верит, что проснулась.
– Но теперь наступил мир, – произнес субадар. – И все люди братья.
– А вы еще делали доклад как-то раз в студенческом клубе, – сказал Блэнд. Он был высоким и белокурым. Когда он появлялся там, где были женщины, вздохи клубились за ним, как кильватерный след за паромом на подходе к пристани. Подобно Сарторису, он тоже был южанином; однако, в отличие от Сарториса, за те пять месяцев, что он был в деле, никто ни разу не обнаружил в его боевой машине ни единой пробоины от пули или осколка. Но к моменту, когда он перевелся к нам из Оксфордского батальона (а он был родсовским стипендиатом2), у него уже была пара наград и нашивка за ранение. Напившись, он непременно начинал разглагольствовать про свою жену, причем все мы отлично знали, что он не женат.
Он взял у Сарториса бутылку и отхлебнул.
– А у меня жена такая девчонка славная! – сказал он. – Давайте уж, расскажу вам о ней.
– Не надо нам рассказывать, – отозвался Сарторис. – Отдай ее лучше Комину. Ему как раз не хватает девчонки.
– Ладно, – сказал Блэнд. – Бери ее себе, Комин.
– Она у тебя светленькая? – спросил Комин.
– Не знаю, – сказал Блэнд. Он снова обернулся к субадару. – Вы еще выступали как-то раз в студенческом клубе. Я вас вспомнил.
– А, – сказал субадар. – В Оксфорде. Да.
– Ему можно учиться у них в университетах наравне с детьми джентльменов, с бледнолицыми, – пояснил Блэнд. – Но ему нельзя получить офицерское звание, потому что честь – это вопрос цвета кожи, а не происхождения или поступков.
– Война важнее, чем истина, – сказал субадар. – Поэтому весь связанный с ней престиж и привилегии мы должны предоставить лишь некоторым, чтобы она не потеряла привлекательности для того большинства, которому приходится умирать.
– Почему же важнее? – спросил я. – Я думал, что на этот раз воевали ради того, чтобы навсегда положить конец войнам.
Субадар только коротко махнул рукой – смуглый, уступчивый, спокойный.
– Я сам сейчас говорил как белый человек. Она важнее для европейцев: ведь европеец есть то, что он может сделать; это его потолок.
– Стало быть, вы видите дальше, чем видим мы?
– Тот видит дальше, кто глядит из темноты на свет, а не тот, кто и сам на свету, и глядит на свет. В этом принцип подзорной трубы. Линза – та только и нужна, чтобы дразнить ждущие, жаждущие чувства тем, чего они никогда не постигнут.
– Ну, и что же вы видите? – спросил Блэнд.
– Лично я вижу девушек, – сказал Комин. – Их золотистые косы целыми акрами, словно поле пшеницы, и я в этом поле. Ну, вы, хоть кто-нибудь из вас видал, как затаившийся в пшенице пес рыщет по полю? Видали, нет?
– За сучками не гоняемся, – сказал Блэнд.
Комин – огромный, плотный – крутнулся на своем сиденье. Он был могуч, как все те, кто трудится на открытом воздухе. Когда два механика вправляли его в кабину "долфина" – словно две камеристки, упихивающие дорожную подушку в слишком маленький для нее футляр, – зрелище получалось очень занятное.
– Ставьте шиллинг, я ему сейчас башку оторву, – сказал он.
– Стало быть, вы верите в человеческое здравомыслие? – спросил я.
– Ставьте шиллинг, или я вам всем башки поотрываю, – сказал Комин.
– Я верю в человеческое сострадание, – сказал субадар. – Так лучше.
– Тогда я сам ставлю шиллинг, – сказал Комин.
– Ладно вам, – сказал Сарторис. – Никогда не пробовали глотнуть немножко виски под ночной холодок – эй, вы?
Комин взял бутылку и отхлебнул.
– Сплошные косы, целыми акрами, – сказал он, – а их кругленькие беленькие девичьи прелести просвечивают сквозь эту спутанную пшеницу.
В результате мы выпили еще – на пустынной дороге меж двух свекольных полей, в темной тиши, и круговерть опьянения пошла на новый виток. Невесть куда подевавшееся, оно начало к нам возвращаться, накатывать и на нас, и на басовитую скалу субадаровой трезвости, пока его голос не зазвучал из спокойного далека, как сквозь сон повторяя, что все мы братья. Теперь и Мониген был тут же, около нашей машины, залитый мощным сиянием фар своего автомобиля, стоял в фуражке британских ВВС и в американском кителе, с плеч которого свисали оба полуоторванных погона, и пил из бутылки Комина. Рядом с ним был еще кто-то второй, тоже в более коротком и щеголеватом кителе, чем наши, причем голова у этого второго была забинтована.
– Спорим, я тебе морду набью, – предложил Монигену Комин. – Ставлю шиллинг.
– Ладно, – сказал Мониген. Он снова выпил.
– Все мы братья, – сказал субадар. – Подчас мы пережидаем не в той гостинице. Думаем, что настала ночь, и останавливаемся, а это вовсе не ночь. Вот и все.
– Ставлю соверен, целый фунт золотом, – сказал Монигену Комин.
– Ладно, – сказал Мониген. Он протянул бутылку тому второму, у которого была забинтована голова.
– Благодарю вас, – сказал тот. – Мне есть уже довольно.
– Я вот ему щас морду набью, – сказал Комин.
– Это потому, что мы делаем только то, что внутри нас, а видим мы то, что вовне нас.
– Еще не хватало, отвали! – сказал Мониген. – Он только мой. Повернулся к человеку в бинтах. – Ты ведь мой, правда? Вот, выпей.
– Мне есть довольно, благодарю вас, джентльмены, – сказал тот.
Однако не думаю, чтобы кто-нибудь из нас обращал на него хоть какое-то внимание, пока мы не очутились в кабаке "Клош-Кло". Народу там было битком, шумно и накурено. При нашем появлении весь шум смолк, словно перерезали струну, и ее скрученный обрывок стал клубком возмущения, написанного на оцепенело повернутых к нам лицах; и вот официант – старик в грязном фартуке – отступает перед нами, чуть не падая, разинув рот, с видом возмущенного недоверия, словно атеист, которому явился Христос или дьявол. Вслед за отступающим официантом мы прошли через зал, и возмущенные лица поворачивались, наблюдая за каждым нашим шагом, пока мы пробирались к столику, стоявшему рядом с тем, за которым сидели трое французских офицеров, глядевших на нас с тем же выражением сперва удивления, а затем возмущения и гнева. Все, как один, они встали; вся комната, вся тишина в ней взорвалась трескотней голосов, словно ударили пулеметы. Только тогда я обернулся и в первый раз поглядел на спутника Монигена: на его зеленый китель и черные тесноватые брючки, на черные сапоги и на его забинтованную голову. Он недавно брился и поранился, так что, судя по свежим порезам, по бинтам на голове, да и по за" травленному, ошеломленно-учтивому выражению его болезненного, бескровного лица, можно было подумать, что Мониген обращался с ним довольно круто. Круглолицый, еще не старый, в безупречно наложенной повязке (только подчеркивавшей разницу в множество поколений между ним и субадаром, на голове которого красовался тюрбан), бок о бок с Монигеном (дикое лицо и в диком виде китель), среди французов, потрясенно и с отвращением на него взиравших, он, при всей своей настороженной учтивости, казалось, был всецело погружен в созерцание собственной борьбы с опьянением, в которое насильно ввергал его Мониген. Что-то в нем было от святого Антония: нечто стойкое, бойцовское – застегнутый на все пуговицы, в безукоризненных бинтах и со свежими порезами от бритья, казалось, он витал в мучительных раздумьях, сопоставляя ясную, пламенную веру в незыблемость определенных правил поведения индивида с разнузданным и необъяснимым хаосом вокруг. Тут до меня дошло, что с Монигеном ведь появился еще один: американец из военной полиции. Он не пил. Сидел рядом с немцем и сворачивал папироски, набивая их табаком из матерчатого кисета.
Сидевший по другую руку от немца Мониген доливал ему в стакан.
– Сбил его сегодня утром, – пояснил он. – Домой поеду, возьму с собой.
– Зачем? – удивился Блэнд. – На кой он тебе сдался?
– Затем, что он мой, – сказал Мониген. Поставил полный стакан перед немцем. – Вот, выпей.
– Одно время я тоже хотел захватить такого с собой к супруге, – сказал Блэнд. – В доказательство, что я был на войне, а не где-нибудь. Но вот ни разу не попался мне подходящий. То есть чтобы целый был.
– Давай, – сказал Мониген. – Выпей.
– Мне есть довольно, – сказал немец. – Весь день мне есть довольно.
– Вы хотите поехать с ним в Америку? – спросил Блэнд.
– Да. Неплохо бы. Спасибо.
– Ясное дело, неплохо бы, – сказал Мониген. – Я из тебя человека сделаю. Пей.
Немец поднял стакан, но только подержал его в руке. Лицо его было напряженным, протестующим, но с оттенком какой-то отрешенности, как у человека, который переборол себя. В моем представлении такие лица должны были быть у древних мучеников, когда они глядели на львов. Ну, и тошно ему было, конечно. Не из-за выпивки – из-за его головы.
– У меня в Байрёйте3 жена с мелкий дитя. Мой сын. Я его еще не имел видеть.
– А, – сказал субадар. – Байрёйт. Однажды весной я побывал там.
– А, – сказал немец. Быстро глянул на субадара. – So? {Так? -нем.} Музыка?
– Да, – сказал субадар. – В вашей музыке некоторым из вас удалось прочувствовать, ощутить, воплотить в яви истинное братство. А мы, все прочие, можем лишь пытаться выглянуть вовне самих себя. Но в музыке мы можем какое-то время идти с ними вместе.
– А потом нам приходится возвращаться, – сказал немец. – И это есть не хорош. Почему нам приходится всегда возвращаться все-таки?
– Потому что пока еще не время, – сказал субадар. – Но недалек тот день... Уже не так далек, как был когда-то. Теперь-то уж!
– Да, – сказал немец. – Поражение для нас будет хорош. Поражение хорош для искусства; победа – не хорош.
– Ага, признал, что мы вас побили, – сказал Комин. Он снова был весь в поту, а у Сарториса ноздри стали совершенно белыми. Я размышлял о том, что сказал субадар о людях, пытающихся бежать в воде. Только нашей водой был пьяный угар: то алкогольное узилище, в котором люди начинают плакать, смеяться и драться – не друг с другом, но с непереносимостью самих себя, причем для пьяных ее оковы еще тяжелей, и еще менее вольны они сокрушить их. Раскричавшиеся, расшумевшиеся сверх меры, в полном неведении о грозно насупленном лике разгневанной Франции (столики вокруг неуклонно пустели; посетители теперь сгрудились у высокой стойки, за которой, выложив на прилавок свое вязанье, сидела хозяйка, старуха в очках со стальными дужками), мы орали друг на друга, невнятицей коснеющих и чужестранных языков пытались докричаться каждый из своего несокрушимого узилища, повторяя одно и то же, но никто никого не слушал; тем временем немец и субадар, ушедшие вглубь, потопленные нами и еще более чужестранные, спокойно беседовали о музыке, о живописи и о победе, рожденной из поражения. А снаружи, в знобкой ноябрьской тьме, висела гнетущая пауза в недоверчиво отступающем, не совсем еще развеявшемся кошмаре, передышка, в которой не продохнуть еще от дурмана застарелых, увешанных словесной мишурой вожделений и осененных знаменами, закованных в броню низменных страстей.
– Ей-богу же, ирландишка я подзаборный! – клялся Мониген. – Это – да, и все!
– Ну, а что толку-то? – отвечал Сарторис. Его ноздри были словно выбелены на фоне покрасневшего лица. В июле погиб его брат-близнец4. Он был в эскадрилье "кэмелов", которых мы прикрывали сверху, и Сарторис тоже участвовал в том бою. Неделю после этого, едва вернувшись с задания, он заправлялся горючим, заряжал диски и вылетал снова, один. Однажды кто-то увидел, как он, взобравшись на высоту около пяти тысяч футов, кружит над стареньким "Ak. W.". Надо полагать, парень, который был в то утро напарником его брата, заприметил самолет германского аса по маркировке или каким-нибудь знакам на фюзеляже; во всяком случае таковы были действия Сарториса, причем этот "Ak. W." он использовал как приманку. Где он его взял и кто взялся летать на нем – не знаю. Но в ту неделю он сбил троих Гансов, укладывая их намертво, как раз когда они пикировали на "Ak. W.", и на восьмой день больше не полетел. "Наверное, он достал его", – сказал как-то Хьюм. Правда, толком никто не знает. Нам он ничего не рассказывал. Однако после этого выправился. Он и прежде много не разговаривал; летал себе на задания, а что-нибудь в неделю раз усядется и давай пить, но этак по-тихому, только ноздри белеют.
Блэнд наливал себе в стакан, с кошачьей ленцой цедил чуть не по капле. Понятно, почему он женщинам нравился, а мужчинам нет. Комин, положив скрещенные руки на стол, так что манжета полоскалась в луже расплесканного вина, в упор глядел на немца. Глаза выкачены, налиты кровью. Американец из военной полиции курил свои худосочные папироски, и под нахлобученной парадной фуражкой его лицо было совершенно пусто. Стальная цепочка свистка петлей свисала из его нагрудного кармана, пистолет, сдвинутый вперед, к коленям, горбом оттопыривался под полой тужурки. Подальше были французы: гражданские, солдаты, официант, хозяйка, – сплошной толпой у стойки. Их голоса доносились до меня словно издалека, будто кузнечики в сентябрьском бурьяне; тень чьей-нибудь руки метнется вдруг, прочертит по стене и опадет.
– Я не офицер, – говорил Мониген. – Я не джентльмен. Я вообще непонятно кто. – На обоих его плечах, в местах, куда должны были быть прицеплены свисающие погоны, зияли рваные дырки; еще две дыры подлиннее шли параллельно над его левым нагрудным карманом, где должны были быть "крылышки" и нашивка. – Я, например, не понимаю. Этой проклятой войне я отдал три года, а понял только, что меня не убили. Я...
– Откуда ты знаешь, что тебя не убили? – спросил Блэнд.
Мониген вперил в него взгляд, так и не закрыв рот и не докончив фразу.
– Ставь шиллинг, я тебя убью, – сказал Комин. – Мне не нравится твоя рожа, ллльетенант! Зараза ты, ллльетенант!
– Ирландишка я подзаборный, – твердил свое Мониген. – Это – да, и все! И отец мой был ирландишка подзаборный, ей-богу. А кто был дед, я и сам не знаю. Вообще не знаю, был ли он у меня. Отец мой ничего Такого не помнит. Возможно, их там потрудилось несколько. Так что ему не надо было даже становиться джентльменом. Причем ведь так и не пришлось! Потому-то он и сумел сколотить миллион, прокладывая в земле канализацию. Чтобы можно было глянуть вверх, на сверкающие в вышине окна, и сказать... своими ушами слышал: он ведь, не вынимая трубки изо рта, как выдаст, так все ваши вонючие кишки долой – у, крохоборы, смрадные ничтожества...
– Так ты чем хвастаешь – что папаша у тебя богач или что он ассенизатор? – поддел его Блэнд.
– ...глянет этак туда, наверх, и говорит мне... он так мне говорит: "Когда увидишь этих чистюль, что у тебя в приятелях, да соберутся они со своими маменьками, папеньками и прочими всякими сестричками – ну эти, которых ты в Йеле подцепил, – дак ты им напомни, дескать, всякий человек раб своего дерьма, а твой папаша – тот, кого они с черного хода вызывают, чтоб поднялся к ним на сорок второй этаж, на кухню – вот он-то и есть главный царь над ними, так что..." Чего-чего? – Он посмотрел на Блэнда.
– Слушай, приятель, – сказал тот, который из полиции. – Давай заканчивай уже с этим делом. Мне надо доставить военнопленного.
– Погодь, – сказал Мониген. Он все еще смотрел на Блэнда. ...Чего-чего?
– Ты чем хвастаешь – что папаша у тебя богач или что он ассенизатор? повторил Блэнд.
– Ничем, – сказал Мониген. – Чем мне хвастать-то? Может, тем, что я сбил тринадцать гансов? Или двумя нашлепками, одну из которых этот его поганый король, – тут он дернул подбородком в сторону Комина, – на меня навесил?
– Не смей говорить, что это мой поганый король, – сказал Комин, постепенно впитывая рукавом остатки винной лужи.
– Вот! – сказал Мониген. Рывком он вскинул руку к дыркам на плечах, где болтались погоны, потом к двум параллельным дырам на груди. – Вот что я на счет этого думаю. Насчет всей вашей дрянной болтологии про славу и офицерскую честь. Молодой был, думал, так надо. А потом ввязался, и уже времени не было перестать, даже когда я понял, что все это не в счет. Но теперь кранты, теперь кончено. Могу быть самим собой. И кто я есть? ирландишка подзаборный, сын переселенца, только и знавшего что кирку да лопату, пока вся его молодость, все годы, когда еще можно было как-то насладиться жизнью, не ухнули до срока в землю. Сам из торфяника, из болотной жижи вылез, а сына учиться послал, по-благородному, да еще потом за океан, чтоб вместе с ними покрасовался – с владельцами тех болот и кровавого пота, с которым другие из месива торф достают, и вот король его благословил.
– Ланно, я те сам ставлю шиллинг и сам те башку оторву, – сказал Комин.
– Но зачем ты хочешь его с собой взять? – не унимался Блэнд. Мониген только молча взглянул на него. Чем-то Мониген тоже напоминал распятого: яростный и бессильный что-либо выразить, причем виной тому была не глупость или, вернее, глупость, но чужая, словно он более чем кто-либо из нас пропитался этими умолкшими фанфарами и барабанным боем застарелого вожделения, постылой страсти, и теперь они в нем проснулись и пришли в ужас от собственного бессилия и безысходного банкротства. Блэнд полулежал на стуле, ноги вытянуты, руки в карманах штанов, холеное лицо невыносимо спокойно. – Под какую такую кирку он там у вас плясать будет? Может, кишки подвального кота на лопату натянете – чтоб воссоздал вам фырчанье ватерклозетов целого Манхэттена, в музыке, для услажденья слуха твоего папаши, когда он переваривает вечернюю трапезу? – Мониген только взглянул на Блэнда с тем же самоуглубленным, диковато-торжественным видом. Блэнд чуть склонил ленивый лик в сторону немца.
– Послушай-ка, – сказал полицейский.
– Есть у вас жена, герр лейтенант? – спросил Блэнд.
Немец поднял глаза. Быстро пробежал ими по всем лицам.
– Да, благодарю вас, – сказал он. Он все еще не притронулся к своему полному стакану, если не считать того, что стакан был у него в руке. Но протрезвление было ничуть не ближе к нему, чем прежде, только теперь выпитое болью распирало ему голову, и голова стала сплошным пульсом, биением поглощенного им алкоголя. – Моя родня из мелкопоместных прусских барон. Нас четыре брата: второй, как водится, для армии, третий бездельничал в Берлине, младший был в драгунском кадетский корпус, а я, старший, – в университат. Там я учился. Было такое время. Было такое, словно мы, юноши тихой страны, собраны вместе, избранники, достойные быть очевидцами эпоха, словно женщина, чреватой новым, высоким предназначением человека и всей земля. Как будто весь гадошт, весь старый мусор блужданий и ошибок человечества будет сметен прочь ради новой раса, который в героической простоте былых времен ступит на небывалый, новый землю. Ви понимает, о каком времени я говорю, нет? Когда глаза сверкают, а кровь бежит быстрее. – Он окинул взглядом наши лица. Нет? Ну, в Америке, может, и нет. Америка есть новый; в новом доме мусор не есть так много, как в старом. – Пару секунд он со спокойным, серьезным лицом смотрел на свой стакан. – Я возвращаюсь домой; я говорю своему отьец: в университат я узнал, что так есть не хорош: барон из меня не быть. Он не может поверить. Он говорит о Германии, стране отцов; я говорю ему: да, это так, so. Ты говоришь – страна отцов; я – страна братьев; я говорю, слово отьец есть пережиток варварства и будет первым сметено прочь: это есть символ той иерархии, которая запятнала историю человечества несправедливостью произвола вместо морали, силы вместо любви.
Из Берлина вызвали одного, из армии приехал другой. Я все-таки говорю: барон из меня не быть, потому что так есть не хорош. Мы в маленьком зальце, где мои предки висят на стенах; стою под ними как перед военным трибуналом; я говорю, Франц пусть будет барон, потому что мне не быть. Отьец говорит, ну, ты ведь можешь, ты должен, это для Германии. Тогда я говорю, для Германии, значит, жена моя будет баронесс? И как перед трибуналом я им говорил, что женился на дочь музыканта, который был из крестьян.
На том и решили. Тот, который из Берлина, должен стать барон. Он и Франц близнецы, но Франц уже капитан, а в армии самый простой капитан может есть из одного котелка с нашим кайзер – ему не надо быть барон. И вот я в Байрёйте с мой жена и мой музыка. Выходит так, словно я умер. Не получаю ни одного письма, пока не приходит вьесть, что отец умер, и я убил его, а тот брат из Берлина теперь дома, чтобы быть барон. Но он не оставаться дома. В 1912 году в берлинской газете он умер рукой мужа какой-то дамы, и вот Франц в результате все-таки барон.
Потом война. Но я в Байрёйте с мой жена и мой музыка, потому что мы думаем, это не будет долго, поскольку прежде это не был долго. И вот самый разгар, отечеству для его честь нужны мы, студенты, но когда мы стали нужны, отечество это не знать. А когда оно осознать, что мы ему нужны, было поздно, и ему уже годился любой крестьянин, кого потрудней убить. И вот...
– Зачем же вы тогда пошли? – сказал Блэнд. – Женщины заставили? Может, тухлыми яйцами закидали, а?
Немец поглядел на Блэнда.
– Я есть немец; это выше мой существо, выше я. Немец; не барон, не кайзер. – Затем, хоть и не отводя глаз, на Блэнда он смотреть перестал. Германия была прежде, чем были барон, – сказал он. – И после она тоже будет.
– Даже после этого?
– Тем более. Тогда это был честь, доблесть – слово из пустой воздух. Теперь... как это вы говорите?
– Нация попирает свои знамена, – сказал субадар. – Человек перебарывает себя.
– Или женщина, ребенка рождающий, – сказал немец.
– Из вожделения, из родовых мук, – сказал субадар, – из боли утверждение, божественность: истина.
Американец из военной полиции опять свертывал себе папироску. За субадаром он следил изучающе, холодно, с выражением сдерживаемой злобы. Лизнул свою папироску и покосился на меня.
– Пока я не попал в эту чертову страну, – сказал он, – я думал, нигеры – они нигеры и есть. А теперь будь я проклят, если понимаю, кто они и что. Кто он такой – заклинатель змей?
– Именно, – сказал я. – Заклинатель змей.
– Тогда пускай вместе со своей змеей валит отсюда подобру-поздорову. Мне надо доставить пленного. Ты погляди только на тех лягушатников. – Когда я обернулся, трое французов как раз покидали заведение, всем своим обликом выражая возмущение и гнев. Немец заговорил снова:
– Из газет я узнавать, как Франц есть полковник, а потом генерал, и как тот кадет, который, когда я в последний раз его видеть, мальчишкой был, круглоголовым постреленком, теперь ас с Железным крестом, полученным из руки самого кайзера. Потом приходил год 1916. В газете я вижу, что кадет погиб его сбил этот ваш Бишоп...5 – он слегка поклонился Комину, – человек, конечно, достойнейший. Так что теперь я сам кадет. Так есть, словно я знаю. Так есть, словно я вижу все наперед. Я перевожусь, чтобы стать авиатор, и хоть я знаю теперь, что Франц штабной генерал, и хоть сам себе я каждый вечер говорю: "Ты вернулся, ты вернулся", я знаю, что это не будет хорош.
Вот, а потом кайзер бежать. Тогда я прослышал, что Франц теперь в Берлине; я поверил, что истина есть, что мы не все загубили ради гордыни, поскольку теперь стало ясно: осталось недолго, а Франц в Берлине, безопасность, от фронта далек.
– А потом наступил нынче утро. Приходит письмо, почерк матери, которого я не видел уже семь лет, и на конверте величать меня "барон". Франц убит немецким зольдат, застрелен, когда ехал на свой лошади по улице в Берлине. И пишет так, словно она все забыла, потому что женщины могут все забывать ошен быстро, поскольку для них нет реальность – истина, справедливость, – нет ничего, что нельзя было бы обнять в руки, что не могло бы умереть. Тогда я сжигаю все мои документы, все бумаги, фотографию жены и сына, которого я еще не видел, уничтожаю жетон с личным номер и срываю знаки различия с кителя... – Рука его метнулась к воротнику.
– Вы хотите сказать, – проговорил Блэнд, – что возвращаться не собирались? Почему же не воспользовались тогда пистолетом – сохранили бы своему правительству аэроплан?
– Самоубийство есть только для тела, – сказал немец. – Тело ничего не решает. Тело нет важность. Дано, чтобы держать чистым, по возможности.
– Это всего лишь комната в гостинице, – вставил субадар. – Всего лишь объем, в котором мы какое-то время укрываемся.
– Уборная, – сказал Блэнд. – Сортир.
Полицейский встал. Тронул немца за плечо. Комин пристально смотрел на немца.
– Ага, признал, что мы вас побили, – сказал он.
– Да, – сказал немец. – Наше время пришло первый, потому что мы были больны тяжелее всех. Следующий черед придет вашей Англии. И тогда она поправится тоже.
– Не смей говорить "моей Англии", – сказал Комин. – Моя страна Ирландия. – Он повернулся к Монигену. – Ты сказал "мой поганый король". Не смей говорить "мой поганый король". В Ирландии нет королей с тех времен, когда правил Ур Нил6, благослови Господь его рыжую волосатую задницу.
Строгий, подтянутый немец слабо махнул рукой.
– Вот видите! – сказал он, ни к кому не обращаясь.
– Победивший теряет то, что обретает побежденный, – сказал субадар.
– И что теперь будете делать? – спросил Блэнд.
Немец не ответил. Сидел, словно аршин проглотив – лицо болезненное, повязка безупречна.
– А вы что будете делать? – спросил Блэнда субадар. – Все мы – что мы будем делать? Сегодня все поколение, воевавшее в этой войне, убито. Но мы этого еще не понимаем.
Все посмотрели на субадара: Комин, выкатив налитые кровью свиные глазки, Сарторис, белея своими ноздрями, откинувшийся на стуле Блэнд вялый, невыносимый, чем-то напоминающий избалованную дамочку. За плечом немца стоял тот, из военной полиции.
– Похоже, вас это здорово заело, – сказал Блэнд.
– Вы что – не верите? – сказал субадар. – Подождите. Поймете сами.
– Ждать? – вскинулся Блэнд. – Думаю, в последние три года у меня не с чего было завестись такой привычке. Да и в предыдущие двадцать шесть лет. А что до того было, не помню. Разве что тогда.
– Ну так, значит, и ждать не придется, – сказал субадар. – Ничего, поймете. – Серьезно и спокойно он оглядел всех нас. – Те, кто уже четвертый год там в земле гниют, – взмах коротенькой, толстой руки, – нет, они не мертвее нас.
Снова полицейский тронул немца за плечо.
– К чертовой матери, – сказал он. – Давай-ка двигаться, старина. – Тот обернулся, и мы все поглядели на двоих французов, офицера и сержанта, стоявших у нашего столика. На какое-то время все застыли. Словно все жучки вдруг обнаружили, что их траектории совпали, и уже не нужна больше эта бесцельная дерготня, да и вообще никаких движений больше не нужно. Откуда-то из глубины, куда не доставал алкоголь, во мне начал всплывать, подниматься к горлу твердый, жаркий шар, как в бою, когда знаешь, что вот-вот что-то случится, и наступает миг, когда думаешь: "Вот. Вот оно, теперь все за борт, теперь ты можешь просто быть. Вот оно. Вот". В общем, это даже довольно приятно.
– Мосье, почему здесь этот? – сказал офицер. Мониген глянул на него, дернулся вместе со стулом назад и вбок и завис с опорой на напряженные мышцы бедер, словно это ступни, и на разложенные по столу локти. – Почему допускаете неприятность для Франции – а, мосье?
Кто-то успел схватить Монигена, пока он вставал; это был американец из военной полиции, он оказался за спиной Монигена и удерживал его за плечи, не давая окончательно подняться.
– А-а-а-дну минутку, – повторял полицейский, – а-аа-дну минутку. Прилипшая к верхней губе папироска подпрыгивала в такт его словам, а повязка на рукаве выпятилась на всеобщее обозрение. – Тебе-то какое дело, лягушатник? – сказал он.
Позади офицера с сержантом сгрудились другие французы и та старуха. Она все пыталась пробиться сквозь окружившую нас толпу. – Это мой пленный, сказал полицейский. – Я с ним куда хочу, туда и пойду, и сидеть он там будет столько, сколько я пожелаю. Вопросы будут?
– По какому праву, мосье? – осведомился офицер.
Он был долговязым, с худым, трагическим лицом. В тот момент я еще заметил, что один глаз у него стеклянный. Неподвижный, застывший придаток лица, казавшегося еще более безжизненным, чем этот фальшивый глаз.
Полицейский глянул на свою повязку, затем перевел взгляд опять на офицера и похлопал по пистолету, который теперь болтался внизу, у его бедра.
– Куда хочу, туда с ним и пойду, хоть через всю вашу помоечную страну. Приведу его в ваш поганый сенат и президента ему еще стул уступить заставлю, а ты будешь локти кусать, пока я не вернусь, чтобы сшибить с тебя соплю.
– А-а, – сказал офицер. – Янки! Сбесился, собака. – Он сказал это сквозь зубы: "сссбака", и ни единый мускул не дрогнул на его безжизненном лице, вид которого сам по себе стоил любого оскорбления. Позади него хозяйка принялась выкрикивать по-французски:
– Бош! Немчура! Побили! Все чашки, все блюдца, стаканы, тарелки – все, все! Я тебе покажу! Специально сберегла их на этот день. Восемь месяцев после бомбардимана хранила в ящике, и вот настал мой час! Тарелки, чашки, блюдца, стаканы, все, чем за тридцать лет обзавелась, все побили, побили одним махом! А мне каждый стакан обошелся в пятьдесят сантимов, мне теперь перед клиентами стыдно, им-то ведь...
В терпении есть некая точка, вершина, дальше которой некуда. Даже алкоголю туда не добраться. С нее и начинается разгул толпы, с момента, когда само изнуряющее однообразие становится непереносимым. Мониген вскочил, полицейский пихнул его обратно на стул. И тут у нас у всех словно все разом полетело за борт, и мы, ничтоже сумняшеся, без тени смущения встали лицом к лицу с тем призраком, вида которого чурались четыре года, пеленали его уборами из высоких слов, тогда как он, увертливый, всегда наготове, тут же из-под них выскакивал, едва только чуть приослабнет кокон знамен. Я видел, как полицейский прыгнул на офицера, но тут вскочил Комин и перехватил его. Я видел, как полицейский три раза ударил Комина кулаком в подбородок, пока тот не сгреб его в охапку и не швырнул буквально на головы толпе, и в ней он пропал, еще в воздухе, взвешенный горизонтально, хватаясь за свой пистолет. Я видел, как трое солдат-французов повисли на спине у Монигена и как офицер пытался ударить его бутылкой, а Сарторис бросился на офицера сзади. Комин исчез; через проделанную им брешь в толпе вынырнула хозяйка, продолжая вопить. Двое мужчин удерживали ее, но она рвалась вперед, норовя плюнуть в немца.
– Бош! Бош! – вопила она, плюясь и захлебываясь слюной, а седые, растрепавшиеся космы заслоняли ее лицо; она повернулась, и полновесный плевок полетел в меня. – И ты! – выкрикнула она. – И ты туда же! Англию небось не разорили! Ты тоже пришел поглодать косточки Франции. Шакал! Стервятник! Животное! Побили, побили! Все! Все! Все! – А где-то внизу, неприкасаемые и неприкосновенные, настороженно-собранные и внимательные, сидели немец и субадар – немец со своим отмеченным печатью духа болезненным лицом и субадар, спокойный, как фигурка сидящего Будды, и оба в тюрбанах, словно ветхозаветные пророки.
Продолжалось это недолго. Впрочем, времени не существовало. Или, вернее, время существовало отдельно, а мы отдельно: в пленке у поверхности не на самой поверхности, а именно в этой пленке, в пограничной полосе, отъединяющей новое от старого: старое, где мы остались живы, от нового, где, по словам субадара, мы были мертвы. Сквозь опасное мельканье бутылок, мельтешенье синих обшлагов, кулаков, черных от въевшейся в них грязи и копоти, и лиц, застывших словно маски, какими только детей пугать – этакая оцепенелая гримаса беззвучного крика, – я снова увидел Комина. Он вплыл как тяжелый дредноут, перепахивающий толкотню беспорядочной зыби; под мышкой у него был престарелый официант, а во рту свисток того американца из военной полиции. А потом Сарторис шарахнул стулом по единственной лампочке.
На улице было холодно, причем так, что холод пронизывал одежду, проникал в расширенные алкоголем поры и нашептывал свой ритм прямо костям скелета. Рыночная площадь была пуста, фонарей мало, да и те в отдалении. И тишина стояла такая, что мне было явственно слышно журчанье слабенькой струйки в питьевом фонтанчике. Откуда-то доносился шум, тоже сочился издали, словно с набрякших, низко нависших небес: ликующие крики; едва слышные, они походили на тонкие истошные женские стенания, как это бывает с любыми криками, даже если их издает толпа мужчин, и время от времени сквозь них прорывались звуки оркестра. В тени у самой стены Мониген и Комин пытались поставить немца на ноги. Он был без сознания; эта их троица была бы невидима, если бы не смутное пятно бинтов на голове немца, и не слышна, если бы не монотонный поток равнодушной ругани, изрыгаемой Монигеном.
– Ни в коем случае не надо было французам и англичанам вступать в альянс, – сказал субадар. Он говорил легко, без напряжения; его не было видно, и этот легкий голос, казалось, исходил из огромной трубы органа, вне всякого соответствия с размерами говорившего. Разные народы не должны объединенными силами воевать за одно и то же. Пусть каждый воюет за что-нибудь свое – чтоб цели не противоречили друг другу, но чтобы каждый был себе хозяин. – Мимо прошел Сарторис; он ходил к фонтанчику и теперь возвращался, осторожно неся перед собой перевернутую околышем вверх раздувшуюся фуражку. В паузах между шарканьем его шагов было слышно, как с нее капает вода. Вот он дошел туда, где слабо отсвечивала повязка немца, и слился с темным сгущением теней, из которого неумолчно доносилась равнодушная ругань Монигена. – И каждый в рамках своих исконных обычаев, продолжал субадар. – Взять мой народ. Англичане дали им винтовки. А они приходят ко мне и говорят: "Это копье коротковато и тяжеловато; как воину копьем такой длины и веса поразить быстроногого врага?" Дали им мундиры с пуговицами, чтобы держать их застегнутыми; ладно, а я как-то раз целую траншею прошел, они сидят там – закоченели, скрючились – по уши закутанные в одеяла, в пустые мешки из-под песка, соломой обложились, лица от холода сизые; откинул я на ком-то из них одеяло – глядь, сидят мои страстотерпцы в одном исподнем.
Порой английские командиры говорят им: "Идите туда, сделайте то" – не шелохнутся. А потом вдруг однажды средь бела дня весь батальон как с цепи сорвался, выскочили из укрытия да прямо через воронку лавиной, и меня с собой потащили и командира. Захватили окопы без единого выстрела – то есть те, кто из нас уцелел: командир, я и еще семнадцать человек; три дня жили в каком-то изломе передовой линии противника, и целой бригаде пришлось нас оттуда вызволять. "Вы почему не стреляли? – командир спрашивает. – Вы же дали им щелкать себя как фазанов". Они на него и не смотрят. Как дети: стоят, между собой что-то бормочут, этакие живчики, и ни досады, ни сожаления. Я говорю их старшему: "О Дас, у вас винтовки были заряжены?" Стоят как дети, робеют, но без тени сожаления. "О сын многих царей", – Дас говорит. Я ему: "Доложи сагибу по всей истине твоего знания!" А он: "Они были не заряжены, сагиб".
Снова донеслось буханье оркестра; издали оно только глухо сотрясало густой воздух. Немца в это время поили из бутылки. Голос Монигена произнес: "Ну вот. Получше теперь?"
– Это исс моей голова, – сказал немец. Их голоса были так равнодушны, словно они обсуждали цвет обоев.
Мониген снова выругался.
– Пойду обратно. Ей-богу, я им...
– Нет, нет, – сказал немец. – Я не буду позволить.
Вы уже неукоснительный дали слово...
Мы постояли в тени под стеной и выпили. Это была последняя бутылка. Она опустела, и Комин разбил ее о стену.
– И куда теперь? – сказал Блэнд.
К девочкам, – сказал Комин. – Хотите глянуть, как Комин из страны Ирландии шурует среди золотистых кос, рыщет будто гончая среди тучной пшеницы?
Мы постояли, послушали далекий оркестр, далекие выкрики.
– Ты уверен, что с тобой все в порядке? – спросил Мониген.
– Благодарю, – сказал немец. – Мне уже хорош.
– Тогда пошли, – сказал Комин.
– Вы что, и его с собой потащите? – изумился Блэнд.
– Да, – сказал Мониген. – А что тут такого?
– Почему бы не отвести его в комендатуру? Ведь ему плохо.
– А почему бы мне не дать тебе в морду? – сказал Мониген.
– Дело ваше, – отозвался Блэнд.
– Пошли, – сказал Комин. – Какой дурак станет драться, когда можно прогибаться? Все люди братья, а все их жены сестры. А ну пошли, гусары-полуночники.
– Послушайте, – обратился Блэнд к немцу, – вы действительно хотите идти с ними? – Из-за его бинтов, когда только его да субадара и было видно, казалось, что это двое раненых среди пятерых" привидений.
– Подержи-ка его минутку, – сказал Мониген Комину. Подошел к Блэнду. Смачно послал его. – Мне, кстати, больше нравится драться, – добавил он все тем же равнодушным тоном. – Даже если меня побьют.
– Не надо, – сказал немец. – Опять я не буду позволить. – Мониген замер; меньше фута было между ним и Блэндом. – Я имеет жена и сын в Байрёйте, – сказал немец. Это он говорил уже мне. Он тщательно, дважды задиктовал мне адрес.
– Напишу, ладно, – сказал я. – Что мне ей сообщить?
– Сообщить так: все ничего. Вы сумеет.
– Хорошо. Напишу ей, что с вами все более-менее в порядке.
– Сообщить так: вся эта жизнь есть ничего.
Комин и Мониген снова положили его руки себе на плечи, встав по обе стороны немца. Они развернулись и побрели прочь, почти неся его на себе. Один раз Комин оглянулся.
– Мир вам, – сказал он.
– И вам также, – откликнулся субадар. Они двинулись дальше. Мы наблюдали, как они мало-помалу превращаются в единый силуэт на фоне освещенного входа в аллею. Там еще была арка; бледные, холодные отсветы слабенького фонаря падали на нее и на прилегающие стены, так что все это казалось некими вратами, и они входили в эти врата, с двух сторон поддерживая немца.
– Что они там будут с ним делать? – проговорил Блэнд. – В уголке где-нибудь прислонят и выключат свет? Или, может, во французских борделях еще и дополнительная раскладушка прилагается?
– Твое-то какое собачье дело? – оборвал его я.
Глухо донеслось буханье оркестра; было холодно. Каждый раз, когда меня передергивало от выпитого алкоголя и от холода, мне представлялось, будто я слышу, как у меня поскрипывают позвонки.
– Тому уже семь лет, как я в здешнем климате, – сказал субадар. – А все-таки не люблю холод. – Его голос был глубок, спокоен, словно в его обладателе все шесть футов роста. Будто, когда его создавали, разговор шел такой: "Дадим-ка ему какое-нибудь средство нести в мир свои суждения. Зачем? Кто будет его суждения слушать? – А сам он и будет. Так пусть ему будет получше слышно".
– Почему же вы не уезжаете обратно в Индию? – поинтересовался Блэнд.
– А-а! – сказал субадар. – Я ведь вроде него: не хочу быть бароном.
– И вы предпочли убраться вовсе, чтобы на ваше место пришли иностранцы, которые будут обращаться с людьми как со скотом или с дичью?
– Устранившись, я развязал узел, который завязывался в течение двух тысячелетий. Все-таки кое-что, а?
Мы тряслись от холода. Холод теперь стал и оркестром, и ритмом выкриков, но под его ледяными руками трясся костяк, а не барабанные перепонки.
– Что ж, – сказал Блэнд, – наверное, английское правительство делает для освобождения вашего народа больше, чем могли бы сделать вы.
Субадар легонько коснулся груди Блэнда:
– Друг мой, вы очень умны. Это счастье для Англии, что остальные англичане не столь умны.
– Выходит, вы так и останетесь в изгнании до конца своих дней, а?
Субадар махнул коротенькой, толстой рукой в сторону пустой арки, за которой исчезли Комин, немец и Мониген.
– Вы разве не слышали, что он сказал? Эта жизнь – ничто.
– Считайте как вам угодно, – сказал Блэнд. – Но мне, ей-богу, не хотелось бы думать, что от этих трех лет я спас всего лишь ничто.
– Вы спасли то, что уже убито, – безмятежно сказал субадар. – Сами увидите.
– Я спас свое предназначение, – сказал Блэнд. – Ни вы, ни кто-либо другой не знает, в чем оно состоит.
– А в чем может состоять ваше предназначение, кроме как в том, чтобы быть убитым? С этим вашему поколению крупно не повезло. Не повезло, что большую часть своей жизни вы будете по земле скитаться призраком. Но в этом и было ваше предназначение.
Издалека донеслись выкрики и снова оркестр, медное глухое буханье, такое же, как эти голоса, сиротливо веселое, надрывное, но в основном сиротливое. Арка в холодном сиянии фонаря была пуста – молчаливо разверстая, бездонная, словно врата в иной город, в иной мир. Сарторис вдруг пошел прочь. Он уверенно дошел до стены и наклонился, опершись на нее руками; его вырвало.
– Черт, – сказал Блэнд. – Выпить охота. – Он повернулся ко мне. Твоя-то где бутылка?
– Вся вышла.
– Куда это она вышла? У тебя ж было две.
– Ну, а теперь ни одной. Пей воду.
– Воду? – оскорбился Блэнд. – Какой кретин будет пить воду?
Тут снова твердый жаркий шар начал всплывать у меня к горлу, сладостно реальный и нестерпимый; снова тот миг, когда говоришь: "Вот. Теперь все за борт".
– Ты! Ты будешь! Да и вообще, пошел ты! – сказал я.
Блэнд смотрел мимо меня.
– Второй раз, – сказал он равнодушным, отстраненным тоном. – Второй раз за час. Что называется, дожились, а? – Он повернулся и побрел к фонтанчику.
Сарторис, подтянутый, уверенно ступая, возвращался.
Ритм оркестра, смешиваясь с тряской озноба, волнами поднимался по позвоночнику.
– Который час? – спросил я.
Сарторис поглядел на запястье.
– Двенадцатый.
– Да сейчас уже за полночь, – сказал я. – Не может быть.
– Говорю, двенадцатый, – сказал Сарторис.
Блэнд наклонился над фонтанчиком. Там было немного светлее. Когда мы подошли, он уже выпрямился, утирал лицо. Свет падал ему на лицо, и я было подумал, уж не сунул ли он всю голову под струю – по самые-то глаза он не мог облиться, но тут я разглядел, что он плачет. Он стоял, утирал лицо и плакал горестно, но беззвучно.
– Бедная моя жена, – сказал он. – Маленькая моя бедняжка.
Примечания:
1. Субадар - офицерский чин в индийской армии, соответствовавший званию капитана. В состав вооруженных сил Британской Индии, наряду с регулярными частями английской армии, входили и так называемые "туземные войска", в которых служили солдаты-индийцы, а командный состав был смешанным. Во время Первой мировой войны они принимали участие в боях на территории Франции вместе с англичанами, но формально считались самостоятельными.
2. ... он был родсовским стипендиатом... - Имеется в виду стипендия для студентов из США, стран Британского Содружества и Южной Африки, дающая право учиться в Оксфордском университете. Фонд учрежден в 1902 г. английским политическим деятелем Сесилом Родсом (1853-1902).
3. Байрёйт - город в Баварии, где похоронен Р. Вагнер. Еще при жизни композитора здесь был открыт оперный театр, построенный специально для постановок его музыкальных драм. С 1882 г. в нем проводятся всемирно известные ежегодные вагнеровские фестивали.
4. В июле погиб его брат-близнец. - Обстоятельства гибели Джона Сарториса изложены в рассказе несколько иначе, чем в романе "Сарторис".
5. Бишоп Уильям Эверли (1894-1956) - прославленный ас британской авиации, канадец по происхождению. За годы Первой мировой войны участвовал в 170 воздушных боях и сбил 72 самолета противника.
6. Ур Нил. - Герой Фолкнера, очевидно, не в ладах с историей, так как в Ирландии никогда не было короля с таким именем. По-видимому, он имеет в виду династию, основанную в начале V в. ирландским королем Нийлом, потомков которого называли Уи Нил.