Мать и дочь
Алексей Толстой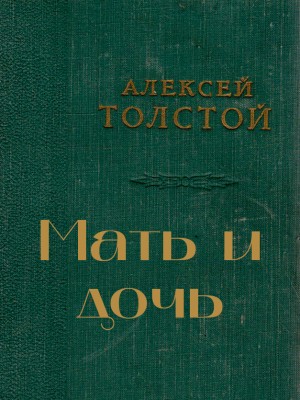
Они подобрали ее на дороге. Сначала подумали, что девчонка лежит мертвая, и Гриша вильнул рулем, чтобы не раздавить ей босые ноги. Но она приподняла голову, ветер встрепал ее волосы, как выжженную траву. Гриша затормозил, Юрий, сидевший с ним, выскочил из кабинки, наклонился над девчонкой.
— Лезь в грузовик.
Она пошевелилась, попыталась подняться на четвереньки и опять легла бочком в дорожную грязь. Худенькое лицо ее с полузакрытыми веками было больное и голодное, как у собачки, что сидит где-нибудь у забора с обрывком веревки на шее и, не прося, смотрит на проходящих людей. Юрий оглянулся, — в степи под мокрыми весенними облаками нигде не было видно жилья.
— Так! Понятно! — сурово сказал Юрий, хотя ничего ему не стало понятно, и поднял девчонку. Голова ее закинулась, упала на его плечо, но сейчас же испуганно вжалась в плечи. У нее даже кости, кажется, были пустые, — до того худа и легка.
Юрий посадил ее в грузовик, на свернутый брезент между ящиками со снарядами, вскочил в кабинку, хлопнул дверцей с грязным простреленным стеклом:
— Выжимай. Опаздываем.
Гриша сказал, вертя баранку:
— Где-нибудь поблизости живет, а мы ее черт знает куда завезем.
Когда проехали километров пять, Юрий ответил скрипучим, вяло-медленным голосом, как выучился говорить за время войны:
— Меня удивляет твой мыслительный аппарат.
С дороги свернули на бескрайнее прошлогоднее жнивье, увязая колесами в черноземе, перегревая мотор, дотащились до балки — степного оврага, визжа тормозами, съехали по крутому откосу и стали неподалеку от батареи, закрытой сверху сетями.
— Вряд ли от нее что-нибудь осталось, — сказал Гриша, вытирая рукавом пот со лба. Но девчонка была жива. Ее перенесли в кабинку, и Гриша сказал ей строго: «Смотри, не дотрагивайся до предметов, сиди смирно». Но чего уж, — у нее и без того едва тлелся огонек жизни под ситцевым худым платьишком. Юрий долго глядел холодными глазами на ее поникшее лицо, на две старческих морщинки с углов полураскрытого рта. Когда артиллеристы кончили выгрузку, он пошел к землянке.
У блиндажа, у входа, на снарядном ящике сидел капитан — командир батареи — с выбритым широким, медно-красным лицом и курил короткую трубочку, с удовольствием потягивая дымок.
— Тишина у нас какая! А! — сказал он Юрию. — Жаворонков слышно. Утром прилетели, проклятые.
— Как живете? — спросил Юрий.
— Да вот ночью подсыпали немчикам угольков. Желаете взглянуть: с кургана видны богатые результаты…
Вежливо выслушав капитана, который еще не совсем остыл от ночного дела, Юрий сказал твердо:
— Трофейные конфеты имеются у вас на батарее? Шоколад, например?
— Шоколад? — удивился капитан и вынул трубочку изо рта.
— У меня в машине — девочка.
— Так бы и сказали сразу.
Юрий тем же скрипучим голосом объяснил, что капитан его не совсем понял. Они пошли к грузовику. Медное лицо капитана все сморщилось от жалости, когда он увидел замученного ребенка.
— Зовут-то тебя как? Ты откуда? Ты чья? — спросил он густым голосом.
Девочка, не отвечая, опять начала втягивать голову в плечи.
— Били ее, — сказал капитан. — Дело ясное… Ах, сволочи, ах, сволочи… — и он сдержанно вздыхал, вспоминая и свою семью, также разметанную, растоптанную немцами. — Она не иначе, как из села Владимирского, с той стороны… Что же вы с ней намерены делать? (Юрий пожал плечами). Здесь, на батарее, ей будет шумно…
* * *
— Не надо, не надо, — чуть слышно прошелестела девочка, когда капитан, Юрий и Гриша старались засунуть ей в рот кусочек шоколада. Пальцы у всех троих были грубые, толстые, у девочки ротик маленький, — страшно дотронуться. Бились, уговаривали. Наконец она почувствовала сладость на измазанных шоколадом губах и приоткрыла зубы. Капитан, радостно засопев, засунул ей туда половину плитки.
Девочку оставили с Гришей в кабинке, Юрий стал сзади на грузовик, чтобы поглядывать на небо. Валяясь со стороны на сторону, дымя маслом, потащились в обратный путь. Гриша наконец заметил, что девочка на него глядит, — значит, шоколад подействовал, повеселела. Отдав ей вторую половину плитки, сказал:
— Будешь ты разговаривать, али нет? Чай, ведь взрослая.
— Не буду, — тихо ответила она.
— Отчего так? Мы свои. Имя скажи. Мать, отец — где у тебя?
Девочка отвернулась, и больше на него не глядела, и шоколад не съела. Ее поместили в землянке с накатом, в лесистом овраге, где неподалеку от станции был склад огнеприпасов и жили Юрий, Гриша и еще пять красноармейцев. Девочке устроили травяную постель, прикрытую шинелью. Вымыли ей голову в роднике и, отойдя, велели выкупаться с мылом. Юрий выстирал ее платьишко и заштопал. Кормили ее первые дни осторожно, понемногу и часто, но так как кормили ее все семь мужиков — она опять стала повторять, когда ей совали чего-нибудь в рот: «Не надо, не надо…» Целыми днями лежала в землянке, лицом к стене, дремала, что ли. Когда с ней шутили — отворачивалась. Однажды Юрий вечерком вздумал ей читать наизусть «Мойдодыр» в отрывках, — что помнил. Девочка так тяжело поглядела на него, с таким упреком, — он расстроился, ушел из землянки — курить.
— Она порченая, — сказал ему Гриша, — у ней — не в порядке. Изловчись — отвези ее в город, пристрой где-нибудь в больницу.
Совет был деловой. Но так как подал его Гриша, а не он сам, — Юрий фыркнул в трубку:
— И не больна она совсем, и не порченая… Спихнуть с себя человека — самое простое дело… В больницу ее! Иодоформу она не нюхала! У нее — горе не детское… Вот у ней что…
* * *
На вечерней и утренней заре между звезд гудели, задыхаясь, немецкие самолеты. В стороне станции грохотали зенитки, доносились тяжелые разрывы. Спать приходилось по-птичьи — вполглаза. Юрий и Гриша однажды вернулись утром, не стали есть, едва стащили сапоги, легли. На Юрину койку присел пулеметчик Ваня, — этот жил в овраге, как на курорте, потому что немцы сюда ни разу не прилетали.
— Слышишь, всю ночь она плакала, так-то горько, как большая, — сказал Ваня, — прямо спать не дала.
Заведенными глазами Юрий мутно поглядел на его толстое лицо и только и подумал: «Тебе не дашь спать…» Выяснилось следующее. Девчонка весь день вчера, как привязанная, ходила за Ваней, куда он — туда она, он — на пулеметную точку, глядь — она между кустами. Он даже ей пригрозил: «Маскируйся, не обнаруживай себя». Она подползла, села перед ним (он разбирал замок), и — тихоньким, отчаянным голосом позвала: «Ваня…» Он — ей: «Ну, что тебе, поесть хочешь?» Она — опять: «Ваня», — да так, что у пулеметчика мороз подрал по коже.
Слушая на своей койке этот рассказ, Гриша сказал сквозь дрему:
— Правильно. У нее сердце размякло. А как зовут ее, не сказала?
— Ничего не прибавила, только — Ваня да Ваня, надоедала мне весь день. А ночью — давай плакать.
То, что у девчонки размякло сердце, показалось всем, даже Юрию, убедительным. Ваня до того был прост, добродушен и нетороплив, такая распространялась от его слов и всего поведения уверенность в том, что все хорошо и будет благополучно, что девчонка — понятно — стала ходить за ним, как привязанная, и ему-то и захотела пожаловаться.
Этой же ночью Юрий проснулся и, засветив электрический фонарик, увидел, что девочка лежит, поджав коленки, обхватив подушку, набитую травой, и во сне горько плачет и зовет глуховатым, неясным голосом: «Мамынька, мамынька, где ты?» Юрий не стал ее будить, — пускай хоть во сне найдет свою маму… «Чего ты прячешься, мамынька?» Девочка вдруг замолчала, задышала и слабо, радостно вскрикнула… Нашла, значит…
Юрий закурил, повернулся на спину. Не спеша потекли мысли. Было время, глухие годы, когда Иван Карамазов в трактире спросил брата Алешу: если для счастья людей нужно принести в жертву всего одного только ребеночка, замучить его, — взялся бы ты, ради счастья людей, замучить ребеночка? Иван Карамазов полагал, что поставил перед Алешей неразрешимую загадку. Алеша тогда не ответил, промолчал… Замучить ребенка!.. Что может быть страшнее… Да хотя бы ради роскошного счастья всего человечества… Проклято было бы тогда такое счастье… А карамазовская загадка решалась просто, теперь ее отгадали: — да, да, замучил бы, но только ребенком этим пускай буду я… Да и пустая это загадка, измышленная, умозрительная. Жизнь сама предложила другую: ради спасения от мук хотя бы одного — вот этого ребенка, — готовы ли все, кто считает себя человеком, встать на смерть? Вопрос прямой и ответ ясный. И Гриша, и Иван-пулеметчик, и остальные четверо, могуче похрапывающие в землянке, и он — Юрий — отвечают: готовы.
Юрий опять набил трубочку. Горло его раздувало злобой. Ладно, с философией кончим. Вопрос ставим практически: требуем счет, — три миллиона немцев за одну эту девчонку, три миллиона долговязых блондинов, с коровьими ресницами и похабными мозгами…
Ваня-пулеметчик взял котелок и полез через кусты на самое дно оврага, где тек ручей и в одном месте образовался омут. Там он, когда выручалась свободная минута, ловил раков.
Ваня стащил гимнастерку и рубашку, лег на живот у края омута и начал шарить руками в тине, иногда — так глубоко, что приходилось окунать голову в воду. Нащупав рака, Ваня приговаривал: «Попался, Ганс-Шнапс пучеглазый… Не интересно тебе… Давай, давай в котелок». Один раз, пуская пузыри, он ушел в студеную воду чуть не по пояс, а — когда выпрямился — в руке у него бил хвостом огромный зеленый рачище. За спиной Вани весело засмеялся нежный голосок. Сгоняя ладонью воду с волос и лица, он обернулся, смеялась девчонка… «Ты чего? Разве можно над солдатом смеяться?» Девочка широко открыла голубые глаза, брови ее поднялись, заломились — вот-вот расплачется…
— Шучу я с тобой, Машка, не плачь.
— Я не Маша, я — Валя, — ответила девочка.
— Ага, вот и сказала, как зовут, ну — молодчина. — У Вани зуб на зуб не попадал, надел рубашку и гимнастерку, подсел к Вале и обнял ее за плечи, притянул к себе. — Раков наедимся?
— Наедимся, — ответила она.
— А покуда покурим? Ладно?
— Ладно…
Ваня оторвал газетную полосочку, согнул, аппетитно насыпал махорочки из жестяной коробки, свернул, дернул по языку:
— Ты на меня не серчай, Валя. Лейтенант Юрий приказал мне узнать про тебя всю подноготную. Он, конечно, строгий, но справедливый, но, конечно, я не выполню приказание — мне будет бучка…
Ваня вытащил из кармана «Катюшу», приладив — раза три ударил железкой по кремню, приятно запахло фитильком, — закурил.
— Давай, давай, рассказывай…
* * *
Из Валиных коротеньких рассказов (в этот день и в последующие) выяснилось следующее. Валя жила с матерью, Матреной Храбровой, в селе Владимирском. Старший Валин брат, Андрей, служил в Красной Армии, младший, Миша, в прошлом году пропал без вести, когда село захватили немцы.
Матрена Храброва очень боялась одного человека, и не иначе говорила про него с тихой злобой, увидев его в окошко: «Опять антихрист по дворам пошел, пропасти на нем нет…» Когда Валя спрашивала: «Мама, почему называешь Михея Ивановича антихристом?» — мать отвечала: «Большая будешь — узнаешь… А ты, Валька, больше помалкивай… Что мать в избе говорит — не разноси на хвосте-то… Смотри…»
Жили они голодно. У них были три курочки — две белые и одна желтенькая и почтенный петух, который все отдавал курам, что ни найдет. Матрена их все прятала от немцев в разные места. Говорила:
«Солнышко весной пригреет, будут наши курочки нести три яичка в день, тогда, доченька, повеселеешь…»
Однажды на заре, — недели три тому назад, — Матрена разбудила Валю:
«Доченька, — сказала, — надень мои сапоги, накинь платок, сходи — посмотри — на кого петух сердится, не лиса ли пробралась в сарай…»
Валя влезла в материны сапоги, накинула платок, вышла на двор и увидела: — дверь в сарае отворена, калитка отворена, кур нет, один петух бегает по двору, сердито хлопочет. Валя ахнула, выглянула за калитку… От их двора шел немецкий солдат, неся за ноги кур, — у них уж и крылья висели… Валя крикнула, побежала за солдатом. Он вместе с курами вскочил в крытый грузовик, откуда из-за брезента весело заревело несколько голосов, и машина укатила. Валя только — вдогонку: «Дяденька, дяденька, это же наши курочки».
На другой стороне улицы, наискосок от Матрениной избы, была новая кирпичная школа. Не так уж давно туда приехала машина с людьми в черных шинелях и черных фуражках, парты и книги они выкинули на двор, окна замазали мелом, палисадник опутали колючей проволокой, и стало в школе гестапо. Мимо этого места владимирские и не ходили, а Матрена, когда нужно было отлучиться от двора, лазила через плетень в проулок.
Валя, все еще стоя на улице, увидела, как оттуда, из гестапо, вышел Михей Иванович, стуча ногами — слез мимо часового с крыльца и, как пьяный, мутно зашагал. Лицо у него было синее, — так показалось Вале, — все в морщинах, будто он воротился от света. Дойдя до Вали — остановился, уперся в нее плоскими глазами: «Ты чего? Глядеть на меня? Ах, поганка!» — ударил Валю по голове и стал топтать сапогом, но все мимо да мимо. А Матрена уже бежала от ворот, вскрикивала диким голосом, и с хода вцепилась ногтями в налитое, круглое лицо Михея: «Ты за что, ты за что ударил мою дочь!» — повалила его на спину и хлестала по щекам: «Антихрист проклятый!». Он был не то пьян, не то испугался и только болтал руками и ногами, и Матрена колотила его, покуда на крыльце гестапо кто-то, хлопнув дверью, не закричал резко.
Этой потасовки Михей не простил Валиной матери. Ночью к ним в избу вошли с карманными фонарями два черных солдата и стали у двери. Вошел офицер с длинной шеей, с маленьким лицом без подбородка, а за ним — Михей Иванович.
Матрена задрожала, прислонилась к печке: «Конец мой, доченька…» — прошептала. Михей выдернул Валину руку из ее руки и толкнул Валю за перегородку, где стояла кровать. «Прикажете произвести обыск, господин обер-лейтенант?» Офицер сел за стол и ответил медленно по-русски: «Делай свое дело».
В дверную щель Валя видела, как Михей вскочил на лавку и прямо полез к образнице в красный угол. «Так и есть, господин обер-лейтенант, письмо здесь от ейного от сына Мишки…» Валя слышала, как мать ответила тихо и ясно:
«Письмо подкинутое… Верьте мне, господин… Сын мой, Михаил, пропал в прошлом году, все на селе знают… Не может быть письма от него…»
Офицер вынул белую папиросницу, раскрыл, — сразу оттуда высунулась папироса и зажегся огонек… Михей сказал: «Хи-хи, хитро, скажите…» Офицер закурил, верхняя губа его была длиннее нижней, он поставил локти на стол и начал читать письмо. Михей, скривясь, зашептал: «Его, его письмо, Мишки, он в отряде разведчиком, с матерью ссылается… А другой ее сын, Андрей, летает через фронт к этим партизанам…»
«Верьте, господин, не может он мне писать, я неграмотная…» — опять проговорила Матрена.
«А вот мы сейчас узнаем — грамотная ты или неграмотная…» — у офицера вдруг обозначились жилы во всю длинную шею. «Я не буду с тобой терять время. Советую тебе сразу сказать всю правду, так как боль будет ужасна». Он завернул голову через плечо к черным солдатам. «Приготовить веревку, скамью, жаровню».
И вдруг из-под тени козырька фуражки стал глядеть на Матренины посиневшие руки, сложенные на животе…
Затем началось то, о чем Валя никак не могла рассказать даже Ване пулеметчику: у нее стискивались зубы, выпячивалось горло, и не было слов, только тоненький писк, как у мыши… Все же можно было понять, что Валя тогда несколько часов за дощатой дверью слушала пытку матери, — стоны, оханье, вскрики боли, бормотание и — опять — возню, и крик, и рев уже не голосом матери…
На другой день соседка, крадучись, пробралась в Матренину избу. Увидела на полу кровь, клочья волос, тряпки. Валю она нашла за перегородкой на раскиданной постели, среди искусанных подушек. Девочка была без памяти. Соседка перенесла ее к себе. А дверь Матрениной избы подперла колом и закрыла ставни.
Дни стояли томительные, знойные, безветренные. На дорогах не улеглась пыль от бесчисленных потоков машин. Медное солнце жгло сквозь пыльную мглу. Юрий появлялся в землянке редко, — худой, черный, злой, — говорил сквозь зубы до того скрипуче — надоедало слушать. Все понимали, что военная гроза близится, — немцы готовят где-то удар, и он будет жестокий…
Приехал на «антилопе» капитан — командир батареи, лицо его стало ещё шире, весь он — от усов до сапог — был серый от пыли. Сел под дубочком на скамью у одноногого столика, с удовольствием снял фуражку, попросил ключевой водицы.
— Со станции заехал к тебе, — сказал он Юрию, — больно раки у вас в овраге хороши, подбрось полсотенки. — Он подозвал Валю и одобрительно помял пальцами ее округлившиеся щеки. — Веселая стала, ишь ты — глазастая… А помнишь — шоколад не хотела есть? — Он так густо захохотал, что Валя попятилась. — Теперь все ешь? Молодчина, девка… Ну-ка — поди, натаскай мне раков пожирнее…
Капитан выпил полтора котелка студеной воды и, закурив, стал болтать о том и о сем, о чем в часы досуга говорят на фронте: о домашнем, о милом, о прошлом и о том, что уток и тетеревов развелось в этом году как комаров. — «Осенью получу отпуск, съезжу к матери на Урал, там поохочусь…» Позавидовал Юрию, что ему по службе приходится мотаться туда и сюда… «А я, как барсук, сижу на батарее, все мечтаю: достать бы мне сочинения Александра Дюма… Читал?»
— Про немцев, что слышно? — проскрипел Юрий. — Скоро кончится эта канитель?
— Дней через пяток ждем… Заметно нервничают немчики. На моем участке сосредоточили артиллерийский полк, — передвинули… На передовой сидели у них тотальные, теперь сменены отборными частями, — ордена, медали чуть не у каждого. Языка брать — почешешь в затылке. Танков, авиации стянули ужасное количество… Ждем, ждем… Это ты точно, что надоело.
Выпятив острый нос, Юрий сказал:
— Навернутся они на нас.
— Это точно, не сорок же первый год… Духу ему дадим…
Капитан с удовольствием переменил разговор, когда Валя в ивовой корзинке принесла зеленых, сердито шевелящихся раков. Капитан надел фуражку, поднялся, потягиваясь.
— В гости на батарею не зову… Шут их знает — могут они и сегодня в ночь двинуть… Мои разведчики приказ перехватили: три дня дается на окружение Красной Армии и четыре дня на ликвидацию… Мы посмеялись… Ну, прощевайте… Скоро, может быть, не увидимся…
* * *
Теперь пыль пошла не от одних колес, — грохотал и застилался черной завесой весь горизонт на западе. Ревело и, надрывая уши, выло небо от невиданного числа самолетов. И так — день и ночь, неделя и другая. Сшиблись, наконец, два многоголовых великана. Торопливо — по-муравьиному — копошился тыл, ехали и шли роты, полки, дивизии, не разбирая дорог, мчались грузовики, полные снарядов, — будто Волга, Урал и Сибирь полными пригоршнями швыряли раскаленные угли в эту громокипящую полосу земли, где немецкие армии в смертельной ярости силились пробиться сквозь русские армии и не могли пробиться и сломить их, и гибли, и новые болотно-зеленые роты, батальоны, полки и дивизии выскакивали из вагонов, с грузовиков, мчались в танках и за танками и разрывались, сжигались, обугливались, взлетали клочьями на воздух во взрывах русской артиллерии, воздушных танков и гвардейских минометов, которых ошалевшие пленные немцы называли — «сталинский орга́н».
В эти дни про Валю забыли. Однажды заскочил Юрий за папиросами, — ввалившиеся щеки поросли щетиной, провалившиеся глаза выцвели. Он увидел: в землянке, где уже с неделю никто не жил, было чисто подметено веником, койки прибраны, на ржавой печурке стоял крохотный желтенький букетик. Валя сидела и тихо шила из заношенного лоскута кукольную рубашку, здесь же лежала и кукла, смотанная из автомобильного тряпья, лицо у нее было из бумажки с нарисованными глазами.
— Здравствуй, Валя, ну как — ничего — одна не боишься?
— Нет, не боюсь, дядя Юра.
— А как ты без горячего?
— Спички вышли, оставьте мне спичек, дядя Юра… Я варила и горячее…
— Ничего… Держись, Валька… Дела идут не плохо… Прощай…
* * *
Село Владимирское было захвачено так внезапно, что не ушел оттуда ни один немец. Не успело удрать даже гестапо, — огромный грузовик с черными солдатами и их командиром был перехвачен на грунтовой дороге и сожжен со всем содержимым. Фронт продолжал продвигаться на запад. Юрий вместе с «хозяйством» перебрался в рощу близ села Владимирского.
Шофер Гриша, рассказывая в сумерки после ужина всякие военные новости, о которых шоферы почему-то узнают раньше других людей, сообщил между прочим:
— Наша-то Валька такая напористая девчонка, — давеча бегала в село и расспрашивала про этого самого Михея Ивановича, фамилия-то у него чудная — Непей. Вернулась угрюмая: Непей, как сквозь землю, провалился. Жители о нём говорят: «Хуже чумы у нас был, мы, говорят, живого бы его в землю зарыли, он это знает… Вот — и ушел…»
Едва только Гриша помянул про Михея — Валя появилась. Нахмуренное лицо ее было, как у взрослой, губы поджаты. Села на краешек бревна рядом с Юрием. Когда про все отговорили и Ваня-пулеметчик, вытащив немецкую губную гармонь, начал, учась, насвистывать, Валя сказала, опустив голову:
— Дядя Юрий, найдите этого человека, кто маму мою мучил.
Тогда все обернулись и посмотрели на девочку. Юрий, подергав ноздрей, ответил:
— Мы постараемся, Валя, это сделать… Товарищи, надо бы собрать о нем сведения.
За это взялся шофер Гриша. Через несколько дней, в такой же час, он мог уже кое-что рассказать.
Михей Иванович пришел в село со стороны, лет восемь тому назад, женившись на одной колхознице — вдове, и вскорости вогнал ее в гроб. Про себя говорил, что он потомственный шахтер, но — вероятнее всего — его отец и он до революции были подрядчиками на шахтах. Был он зол и увертлив. Всегда у него в избе, — принеся закуску или за деньги, — можно было достать самогону. Одно время стал к нему ездить — пьянствовать — ветеринар, и они вот что устроили… (Узналось об этом позже, при немцах, когда Михей сам стал хвастать своей ловкостью). Накануне Покрова, рано утром, доярка пришла в коровник и увидела, — симентальская корова «Председательница», гордость колхоза, лежит на соломе дохлая, с широко оскаленными зубами. Начался переполох. Ветеринар ночевал у Михея и пришел вместе с колхозниками, осмотрел «Председательницу». — «Отойдите, товарищи, — сказал веско, — есть опасение, что это сибирка». Корову со всеми предосторожностями отволокли за село, зарыли вместе со шкурой, коровник дезинфицировали. Слава богу — падежа больше не было. А Михей и ветеринар всю зиму ели солонину. Что же он сделал, чем потом хвалился? Взял он здоровенную картошку, ночью с поддельным ключом прокрался в коровник и картошку ловко засунул «Председательнице» в дыхательное горло, запустив по локоть руку ей в рот. А на другую ночь они с ветеринаром корову откопали и освежевали.
Когда началась война с немцами, Михей до того приободрился, что не мог скрыть злобной радости, и весь этот день, встречал людей и повторял, сверкая глазами: «Ох, польется кровушка… Ох, кровушки теперь прольется…» Когда наши, отступая, проходили через село, шатаясь от усталости, голодные и невеселые, и красноармейцы постучались к Михею — попросить молочка, он приподнял окошечко: «Нету, нету, родимые, советская власть все подчистила…» Когда вошли немцы — вслед за танками — Михей, причесанный с маслицем, в чистой рубашке и хорошем пиджаке, стоял у ворот, держа на вышитом полотенце каравай с серебряной солонкой. Он кланялся немцам до тех пор, покуда один из офицеров, проходя, не взял у него каравай, передал солдату и сказал: «Отлично, хвалю…»
Вскорости Михей начал ходить по дворам и заводил разговоры, присев на крылечке, постукивая палочкой и двусмысленно поглядывая на стоящего хмурого хозяина и хозяйку с растерянными лицами:
— Не знаю, — рассуждал, — право, не знаю, как жить теперь будем при новой власти, колхознички? Сгоряча-то я, сам знаешь, хлеб-соль им поднес… Но теперь, между прочим, начал сомневаться… Все-таки советская власть кое-что дала… Конечно, при немце — порядок, частная торговля и — вообще, но хозяин он крутой… И так думаешь, и этак думаешь… Вот и хожу по людям. — И он, морщась, чесал палочкой за ухом. — Привычка… Общество… Коллектив… Гляди, — многие ведь в партизаны уходят, значит — что-то есть… Прочно ли немцы тут основались? — тоже вопрос… Ты-то как думаешь, Степан Петрович?
Солдаты немецкого гарнизона вначале — неделю, другую — будто не обращали особенного внимания на население. Жили, как на курорте, — производили учения, играли в футбол, дудели на трубах, расхаживали в одних трусах, бесстыжие, по улице. Но когда приехали черные и около школы на фанерном листе вывесили объявление с угрозой — по всякому поводу — смертной казни, — немцы показали волчьи зубы. Ограбили село организованно — дочиста, и то, что не увезли в грузовиках черные, подчистили солдатики гарнизона.
Гестапо начало интересоваться каждой семьей. Тут и поняли владимирские — зачем к ним ходил Михей точить двусмысленные речи. Ловко, подлец, незаметно выведывал между слов: у кого сын или зять в Красной Армии, кто был связан с местными коммунистами, кто дружил с учителем Веревкиным. Учитель накануне прихода немцев скрылся из села вместе с несколькими молодыми ребятами, и теперь, говорят, он в районе взрывает мосты и склады, подорвал один поезд с панцырным эсэсовским батальоном и немало сжег грузовиков на дорогах.
После страшной гибели этого эшелона (со всего хода вагоны вгромоздились один на другой и повалились с высокой насыпи) черные стали брать людей — и старых и подростков — и отводили их в школу. Брали преимущественно с тех дворов, где бывал Михей. По ночам из школьного подвала в отдушники вылетали такие раздирающие крики — слышали их далеко на конце села, и люди не могли спать, сидя на лавке, мотали головами, старики и старухи шептали молитвы…
Про Михея начали говорить, что он бывает при пытках, — иначе — почему на его дворе появились две коровы и бычок. Сам он теперь ходил в зеленой куртке, подстригал бороду и волосы, а один раз видели, как курил сигару. Люди, завидев, что он заворачивает к их избе, прятали еду и одежонку, что осталось, усылали детей подальше. Пускать Михея не хотелось, не пустить было опасно. Он приходил к людям теперь не просто, а вытаскивал из кармана бутылку шнапсу…
«Не любят меня соотечественники, — говорил, садясь за стол, — вижу, все вижу… Не верят мне… Сплетни про меня плетут, сплетни… (Из другого кармана вытаскивал сало и резал его квадратными кусочками). А я разве не человек? Зверь, что ли я, или черт? Эх, милые вы мои, скучно мне… Так мне скучно с немцами… Верят они мне с того самого часа… А уж немец поверил, — его не пошатнешь… Это — техника, организация… Ему думать некогда, он думает мало… — Михей наливал, пододвигал голодному хозяину стаканчик и сальце. — И ведь это они про меня пущают гадость, будто я в гестапе работаю… Связывают меня, чтобы Михею — в случае чего — вернется советская власть — деваться было некуда… Ну, давай, кум, выпьем что ли… Если я по слабости не так сделал, не то сказал, простите меня христа ради… Вот эту бутылку у них попросил, — дали, а как? «На!» — в морду ткнули, как собаке… Вот коровы мои, тоже… Ведь эти деньги на коров давно у меня были припрятаны… Люблю молочко, а еще больше солонинку люблю. — И он лукаво подмигивал и, смеясь, наливал по второму. — Да черт с ними, с коровами, когда такая про меня слава… Брошу все, уйду отсюда… Переберусь через фронт, — делайте со мной, что хотите… А то к Веревкину пойду, упаду ему в ноги, — кровью, скажу, хочу покрыть все грехи…»
Хозяин — поумнее — молчал, не глядя в глаза, хозяин — попроще — начинал верить и поддакивать. А через несколько деньков за ним являлись черные.
* * *
Юрий пошел вместе с Валей в политотдел к майору и рассказал ему про Михея. Тревожно переводя глаза с Юрия на майора, Валя с таким напряжением слушала, что казалось, вся маленькая жизнь ее теплится одной надеждой — найти этого человека, а не найдут и — замрет огонек. Майор записал данные. «Будем искать подлеца…» И Валя улыбнулась, — всмотрелась в него и опять тревожно затрясла лицом.
По дороге в рощу, в свой лагерь, Юрий шагал быстро, Валя рысцой поспевала за ним…
— Дядя Юрий, а он найдет?
— Почем же я знаю, Валя… Раз сказал — значит — будет искать…
— Дядя Юрий, я сама тоже пойду искать.
— Куда ты пойдешь! Глупости… На мину попадешь, или грузовик задавит…
— Нельзя?
— И нельзя, и не приставай, и замолчи…
Несколько дней Валя грустила, отвечала только — «да», «нет», сидела в сторонке, сдвинув коротенькие приподнятые брови. Однажды утром ее не обнаружили в землянке. Убежала. Стали обсуждать, — ясно, пошла на розыски Михея. Так всем было неприятно, — черт! — пропадет девчонка. Гриша ходил в село, расспрашивал; кое-кто действительно видел ее около заколоченной Матрениной избенки, кое у кого она спрашивала про Михея, а куда она пошла потом — никто не видел.
Дня через три Валя прокралась в лагерь, как повинная собачонка, нечесаная, исцарапанная, чумазая. Ее не ругали, не расспрашивали, обошлись сурово и — только. Валя проспала чуть не сутки, наелась, а утром ее опять не обнаружили.
Одна женщина, жена местного коммуниста, вернувшаяся с двумя детьми в разоренный дом, рассказала соседям (а через час двое мальчишек прибежали в рощу и рассказали об этом шоферу Грише), что километров в пятнадцати от села, на дороге, встретила Матренину дочь и та все ей поведала, так-то жалобно… «И ведь такая смышленая девочка, догадалась, что Михей непременно укрывается где-нибудь на военных работах…» «Все обойду, тетенька Степанида, где дороги чинят, где противотанковые рвы роют, всем в глаза погляжу…» Поплакали мы с ней, дала ей сухарик, и она пошла…»
* * *
— Дядя Юрий, а дядя Юрий, вставайте-ка скорее, пойдемте.
Юрий глубоко засопел, просыпаясь. Утро чуть брезжило в маленькое окошечко землянки. Валя стояла у койки, трогала его за лицо…
— Нашлась… Здравствуй… Ну и дрянь же ты девчонка… Чего меня тормошишь?
— Идемте к этому дяденьке, куда мы ходили с вами… Дядя Юрий, я ведь его нашла…
У нее странно зазвенел голос. Юрий, все еще сопя, натянул сапоги, подпоясался, пригладил вихор…
— Ну и ну! Неужели нашла?
— Ага… Там я все расскажу, только скорее.
Они пошли в политотдел к майору, который спал на двух сдвинутых лавках, завернувшись в шинель и положив портфель под голову. Валя, не дожидаясь, когда он очухается и сядет к столу, торопливо начала рассказывать, как она нашла и узнала Михея… — «Двести километров исходила, все-таки он мне попался… Дяденька, он усы и бороду сбрил, только я одна и могу его узнать…»
Немного спустя майор с Валей выехали на то место, где чинилось подорванное немцами шоссе. Валя, стоя в открытой машине, напряженно глядела сквозь стекло. Подняла руку, обернулась и шепотом — майору:
— Здесь…
Какой-то сутулящийся человек, белый от известковой пыли, с замотанной платком головой и обернутыми тряпьем раздвинутыми ногами, колол щебень. Когда остановилась машина, он поднял голову, прищурился и коротконосое обритое лицо его все сморщилось, будто он взглянул на свет…
— Он, — крикнула Валя, указывая на него пальцем.
— В чем дело? — хрипло спросил этот человек у подошедшего майора. — Документ мой? Пожалуйста… Всё в порядке… — И он, полоснув колючим глазом стоявшую рядом с майором девчонку, низко нагнулся и опять стал колоть камень.
Майор спросил, перелистывая паспорт:
— Ваша фамилия Павлов, Алексей Демьянович, тринадцатого года рождения? (Холодная Валина рука схватила его руку и сжала).
— Правильно, Павлов Алексей Демьянович, — не поднимая головы, ответил тот. — А в чем, все-таки, дело?
— А в том, что паспорт твой из немецкой комендатуры…
Человек медленно качнул головой, усмехнулся:
— Вы меня на пушку не берите, товарищ, паспорт мой выдан смоленской милицией, я беженец из Смоленска, инвалид гражданской войны. — Он вдруг потянул носом. — Тоже, жизнь собачья… Колоти камни, жрать нечего… Проливал кровь за советскую власть, тебе же вон что подносют: из комендатуры пачпорт…
Майор до этого молчал, а как человек засопел со слезой, майор вынул пистолет:
— Встать! — Человек нехотя поднялся и сердито бросил молоток. — Подними руки… (Майор похлопал по его карманам). Иди к машине, вперед меня…
* * *
Михей не долго запирался, — его сразу опознали свидетели. Тогда он начал всё рассказывать:
«Под немцем был пьян без просыпу, сначала-то от радости, а уж потом совесть свою заливал проклятым… Не скрываю — встретил немцев с хлебом-солью, скучно мне было при советской власти, поверил, что под немцем стану жить, понимаете, гражданин следователь, — жить! Но меня они обманули, прошу дать возможность об этом объявить по радио, всенародно… С охотой, с охотой вначале-то работал у них в качестве, как говорится, артиста… Интересно было из упрямого-то мужика выудить, что он на самом деле думает, сиволапый… Он мне не доверяет, он упирается, а я его, как голого, вижу и сказать заставлю… Советская власть мной пренебрегла, а здесь я развернулся… Когда моих мужичков начали таскать в гестапу, да я услышал, как они там кричат, ах, — что я наделал! Опомнился, заметался… Руки на себя хотел наложить… Но опять — водка, опять страх перед черными… Ужасные люди, гражданин следователь… И уж тут я покатился на дно… Лопнула в душе у меня струна, гражданин следователь… Спрашивайте, — все расскажу, все покажу… Такое, что волосы дыбом встанут…»
Несколько дней он рассказывал о муках русских людей, о пытках и казнях в гестапо. Показал яму, где зарывали трупы замученных, показал зарытые немцами в подвале школы орудия пытки: жаровню, железные крючки, которыми подвешивали за ребро, резиновые плети, деревянные иглы — занозы, вбивавшиеся под ногти…
Рассказывал о пытках тихим голосом, обстоятельно, будто о каком-нибудь кустарном заводике, где били скот и делали колбасу… «Присутствовал, при многих пытках присутствовал», — бормотал он, закрыв глаза. И вдруг упал на пол, стал ногтями скрести землю: «Вот она кровушка-то, вот она кровушка…» — и целовал земляной пол…
— Бросьте ломаться, уж очень вы противны, — сказал ему по-человечески офицер, который вел следствие. Затем, уже в камере, задал вопрос: — Вы, Михей Непей, думали когда-нибудь, работая на немцев, что продаете русский народ, продаете родину?
— Думал, думал… Так ведь с одной родины сыт не будешь, своя рубашка к телу ближе…
Словом, для трибунала все было ясно. В присутствии жителей села Владимирского, теснившихся около школы, в самой школе и на подоконниках, суд приговорил Михея Ивановича Непея к повешению. Когда судья произнес это слово, Михей, стоявший прямо, с вытянутыми по швам руками, даже не моргнул, ничего не изменилось на его обритом, щетинистом, припухлощеком лице с низеньким лбом. В зале изумленно, удовлетворенно ахнули и сейчас же сотни рук захлопали в ладоши и женский голос крикнул злобно:
— Мало ему, подлецу… Мало ему такой казни… Шкуру с него надо содрать…
Наутро около виселицы, — двух невысоких столбов с перекладиной, — опять собралось все село. Михея привели под охраной четырех красноармейцев. Он шел, как на ватошных ногах, низко уронив голову. Судья опять прочел приговор. Михея подвели к табуретке. Он попятился. Его подхватили, поставили… Тогда он хлопотливо сам начал надевать на себя петлю. И все увидели — его ненавидящие, беловатые, плоские глаза и ненавистническую усмешку, раздвинувшую мелкозубый рот…
Валя, стоявшая совсем близко от него, закричала, сжимая кулачки:
— Ты не смейся… Ты покричи, как мама моя кричала…




