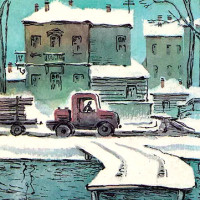Параня
Владимир Тендряков
Лето 1937 года.
Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.
На площади перед районной чайной, в просторечии — тошниловкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане…
Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошниловки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.
На устах у всех наш Сталин…
Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.
— Параня! Параня! Кто твой жених?
— Уд-ди! Уд-ди!.. — гудит Парапя и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под щипки и тычки.
Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:
— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам…
— Кто твой жених, Параня?!
Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.
— Парань! Эй!
— Уд-ди!
— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?
— Дык засватана.
— Га! Дай-кось я…
— Уд-ди! Уд-ди!
Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке апаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.
А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:
— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?
— Тетка, спроси сама, кто жених-то… Никак не добьемся.
— Добром скажет — отстанем.
— Любо же знать…
— Гы-гы-гы!..
— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!
— Параня, кто твой?..
Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.
— Ужо… Ужо… Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет…
А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна любуется на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.
Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!» И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто… Сегодня сидит, скучновато посматривает.
Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом.
— Уд-ди! Уд-ди!
И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых…
И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:
О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая…
Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:
— А сын божий Иисус Христос, вот кто.
С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменного мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожоп, как Параня… Форсист, как Параня…»
Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:
— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь… Бабушке Губиной ужо скажу…
Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:
— Вот Ване Душному скажу…
Ваня Душной, он же Савушкин,- милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:
— Ты, Иван, того… подходишь… Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят…
И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.
В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — наистарший средь районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.
— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.
Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.
— Зорьке Косому… Он вас ножиком…
Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.
— Параня, посватайся за меня…
— Га-га-га!
— Гы-гы-гы!..
— Уморила Параня…
— Уд-ди! Уд-ди!..
Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям…
— Уд-ди!.. Я вот Сталину… Вот ужо ему… Ужо он вас… врагов народа…
Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: «Сталин — жених Паранн!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам допер, без доброжелателя.
Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил…
кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиралась.
— Вот ужо…
Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые…
И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:
Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом…
Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.
— Вот ужо… — Она пятилась.
Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.
— Вот ужо… Сталину… Родному и любимому…
Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами… И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками… Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся…
Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.
О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая…
Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильней обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.
Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.
— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил… Родной и любимый… На мне его благость… Ужо вас! Ужо!..
Слова, то сиплые, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.
— Забижали… Ужо вас… Он все видит… Родной и любимый, на мне венец…
Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая коробящую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.
— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная…
Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирал по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становился рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.
Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.
— Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель… Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипела в углах вывернутых губ.
Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немытым кулачком:
— Ужо вам!
— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу. — А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топай но домам, покуда я добрый!
Но из толпы подали голос:
— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать…
И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.
— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..
Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.
Начальник районного отделения милиции Кнышев человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил прибедняться: «Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать вот наш скромный вклад в дело социализма».
Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кпышев как сидел, так и сидит на своем мосте, рассчитывает сидеть и дальше.
Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:
— Бери!
И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.
Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:
— Он в очках ходил! И в галстуке! Простой народ нонче должон властвовать! Тот что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..
И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.
Симаха Бучило обличал бы и дальше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.
Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.
— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.
— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней женихаться…
— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.
— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое сам товарищ Сталин…
— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.
— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла хвалила, а ее цап!
— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!
Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?
— А что, ежели она того… замаскированный агент из какой-нибудь Англии?
— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной…
— Знать-то знаю, но все-таки… Могли и завербовать: притворяйся убогенькой, сообщай тайные сведения…
— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учрежденьицам лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.
— Но замечено за Параней — чиста.
И общий возмущенный клич по поселку:
— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!
Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»
Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения — себе на уме…
— Писать надо, писать самому…
— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить…
Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.
Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:
— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!
— Виноват…
— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос «Солнце всходит и заходит»?
— Виноват, не пойму.
— Нет уж, пой ты, пташечка, мы послушаем…
— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?
— На чью агентуру работаешь, сволочь?
— Виноват!
— Не отвертишься. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..
Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.
Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..
— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие… Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим… Ты им гвозди вбивал, что ли?
— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной… Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.
— А патроны куда использовал?
— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красы носим эти штуки.
— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его… — И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг человека — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?
— Чего?
— На чистых советских людей поклепы возводишь?
— Чего?
— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!
— Да чего?.. Вы ведь сами…
— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию «Солнце всходит и заходит» петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..
Кнышсв с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопровождение: «Обманным путем вынудил дать соглашение на арест… терроризировал простых советских людей… прямая диверсия против Генсека…»
Параню выпустили.
Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменой мешковине — вовсе незнакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.
Ее успели не только остричь, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах… И новые слова:
— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого… Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Осподи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя… Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..
И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.
— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..
Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.
Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи… Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как…
Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошпиловка — центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Нараня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосился. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:
— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..
Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестеров, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестеров, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч…» Высокий, крепкошеий, с чубом — льняная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешенная значками ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.
— О-он!.. На родного и любимого! О-он!., Ножи-ножики!.. Ви-ижу-у!..
— Девочки, что же это?- Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.
— О-он!.. — стонуще визжала Параня. — О-о-он! Держи-ите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..
Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.
Но поселок сразу же забурлил от догадок.
— А уж не учуяла ли чего Параня?
— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того… Чтоб это он на самого… Да в жизнь не поверю!
— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста…
— Да я же не о том… Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.
— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю…
— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то…
— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!
Кто-то петухом наскакивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются… не они стране, не страна им. Антиобщественны.
Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же просто-напросто проницательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.
А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребятишки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:
— Васька! Пашка! Домой, пащенки! Вот я вицей здоровой накормлю…
Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило, — этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.
Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.
Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы!- был бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой средь торговых точек поселка, была поперек себя толще.
Вот к ней-то и притопала Параня.
— Паранюшка, хочешь морсику?- ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.
Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу… и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Парапя закричала:
— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого… Свирженье!..
Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.
— У-у, недоделанная! — заголосила она. — Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откудова таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..
И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:
— Ви-ижу! Она… Свирженье-покушенье… Нажалуюсь…
И опять суды да пересуды.
— Ишь ты кого Параня унюхала.
— Давно бы пора толстомясую!
— Яд… А что, очень даже может… Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.
Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.
У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.
Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями…
Параня шаталась по улицам, и встречные издалека поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!
Но магазины-то не закроешь перед Параней.
Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..
Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:
— Паранюшка, на… Паранюшка, возьми гостинчик.
И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:
— Венец… Благодать его… Нареченный… Родной и любимый… Светоч…
— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи сладкая! Для тебя нам ничего не жалко, Любим мы тебя…
Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлоборез. Параня взвопила и забилась:
— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож! На родного!.. Спаси-и!..
Ее крик вырвался на улицу, скучившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шарахнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.
Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.
Неужели и тут Параня не ошиблась?
А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли…
Утром Тося Филимонова была арестована.
Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копеечки, первым вывесил над замком объявление: «Закрыто на переучет!» А уж за ним решили переучитываться и другие магазины…
«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.
Параня идет! Пустеют улицы.
Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, череп — словно колпак, подбитый бровями… Никита попробовал завернуть лошадь но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз… Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниловки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того… не обезвредили?..»
В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».
В скверике появилась Параня и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбегаться…
Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Вучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»
Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?
Одни шептали:
— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели… Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.
Другие возражали:
— Чтоб чрез нас да в Туруханский край — это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские… Параня — тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..
Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.
Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а… Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту — Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..
Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь — прислушайся к массам.
Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и… вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..
Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть — государственная тайна! Будь бдителен — враг повсюду! Болтун — находка для шпиона!
Параня идет!
Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.
Параня идет!
Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.
Параня идет — прячься!
И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.
Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошниловки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.
Параня идет!..
Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убегавших.
— Стой! Стой! Куд-ды?!
И тут увидел Параню.
Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста, — спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.
— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия. — Паранюшка! Родная душа! — И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.
Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.
— Уд-ди! Нажалуюсь!
Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.
— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..
Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:
— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..
Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.
— Да здравствует великий я мудрый товарищ Сталин!
Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.
— Да здравствует Параня!
Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной, — и плаксивое лицо Парани.
— Да здравствует великий Сталин!
Сжатые руки возносятся над головами.
На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаш. Он остолбенел, он побледнел, он съежился — один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо…
— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..
На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.
— Да здравствует Параня!.. Да здравствует…
Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:
— Пойдем!..
— Да здравствует великий Сталин!..
— Ид-ди, рвотное!- Силин оторвал Симаху от Парани.
— Да здравствует Параня! Верный и преданный…
Бенц по шее!
— Да здравствует великий Сталин!
Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.
— Да здравствует Параня!
Удар!
— Да здравствует Сталин!
Пропуск удара.
— Да здравствует Параня!
Снова удар.
И так, под перемежающиеся удары и патриотические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.
Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.
Бучило был последней жертвой Парани.
Кончилось все это неожиданно и печально.
Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.
Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось…
Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то стращала им: «Ножиком вас зарежет…» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:
— Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж…
И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.
— Заткнись, курва!
Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженому темени.
Параня не вскрикнула, она только закружилась, развевая вокруг тощих расчесанных ног клейменый подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утоптанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.
А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого средь малых, а просто Человека:
«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает…»
Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенькие, завороженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства, они окружили Параню.
Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.
А репродуктор славил с высоты неба:
«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек…»
Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:
— Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..
Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполинские ступни ног.
Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внушал великое:
«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»
В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.
Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:
— Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело…
За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.
Д о к у м е н т а л ь н а я р е п л и к а.
Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
Имя этой девочки — Г е л я, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича М а р к и з о в а.
27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монполии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.
Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.
— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.
— И часы и патефон, — ответила Геля.
Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Г е л е М а р к и з о в о й о т в о ж д я н а р о д о в И. В. С т а л и н а».
Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.
Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.
Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.